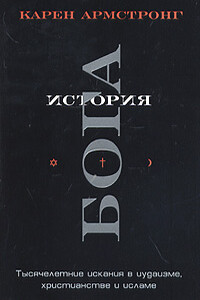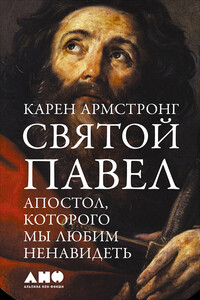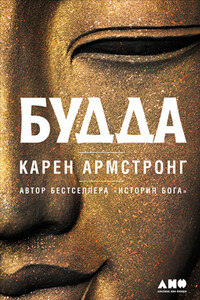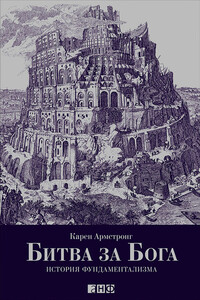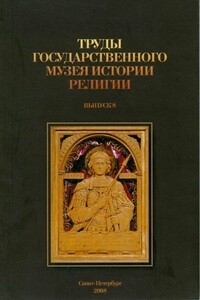В детстве у меня были стойкие религиозные верования и довольно слабая вера в Бога. Между верованиями (когда мы принимаем на веру некие утверждения) и настоящей верой (когда мы полностью полагаемся на них) есть различие. Конечно же, я верила, что Бог есть. Я верила в действительное присутствие Христа в причастии, в действенность таинств и в предстоящие грешникам вечные муки. Я верила, что чистилище — место совершенно реальное. Однако я не могу сказать, чтобы эти верования в религиозные догматы о природе высшей реальности давали мне подлинное ощущение благодати земного существования. Когда я была ребенком, католицизм представлял собой, главным образом, запугивающее вероучение. Джеймс Джойс точно описал это в «Портрете художника в юности»; я тоже выслушала свой курс проповедей о геенне огненной. Правду говоря, адские муки выглядели намного убедительнее, чем Бог. Преисподняя без труда постигалась воображением, Бог же оставался фигурой неясной и определялся не столько наглядными образами, сколько умозрительными рассуждениями. В восьмилетнем возрасте мне пришлось вызубрить ответ на вопрос «Кто такой Бог?» из катехизиса: «Бог — это Высший Дух, единый Самосущий и бесконечный во всех совершенствах». Смысла этих слов я, разумеется, не понимала. Должна признаться, что они до сих пор оставляют меня равнодушной: такое определение всегда казалось мне слишком сухим, помпезным и надменным. А работая над этой книгой, я пришла к выводу, что оно еще и неправильное.
Повзрослев, я поняла, что религия — это не только страх. Я читала жития святых, сочинения поэтов-метафизиков, стихи Томаса Элиота и некоторые труды мистиков — из тех, кто писал попроще. Литургия начинала пленять меня своей красотой. Бог по-прежнему оставался далеким, но я чувствовала, что до Него все-таки можно дотянуться и что прикосновение к Нему вмиг преобразит все мироздание. Ради этого я и вступила в один из духовных орденов. Став монахиней, я узнала о вере намного больше. Я погрузилась в апологетику, богословские изыскания и историю Церкви. Я изучала историю монашеской жизни и пускалась в подробнейшие рассуждения об уставе нашего ордена, который все мы обязаны были знать назубок. Как ни странно, во всем этом Бог занимал не такое большое место. Основное внимание уделялось второстепенным деталям, частностям веры. Во время молитвы я отчаянно заставляла себя сосредоточить все мысли на встрече с Богом, но Он либо оставался суровым надсмотрщиком, бдительно следящим за любым нарушением устава, либо — что было еще мучительнее, — вообще ускользал. Чем больше я читала о мистических восторгах праведников, тем сильнее огорчали меня собственные неудачи. Я с горечью признавалась себе, что даже те редкие религиозные переживания, которые у меня возникали, вполне могли быть плодом моей собственной фантазии, следствием жгучего желания их испытать. Религиозное чувство нередко является эстетическим откликом на очарование литургии и грегорианского напева. Так или иначе, со мной не случалось ничего такого, что пришло бы извне. Я ни разу не ощущала тех проблесков Божьего присутствия, о каких рассказывали мистики и пророки. Иисус Христос, о Ком мы говорили намного чаще, чем собственно о Боге, казался фигурой чисто исторической, неотделимой от эпохи поздней античности. Хуже того, некоторые церковные доктрины вызывали у меня все больше сомнений. Как можно удостовериться, например, что Иисус был Вочеловечением Бога? Что вообще означает эта идея? А доктрина Троицы? Действительно ли эта сложная — и чрезвычайно противоречивая — концепция содержится в Новом Завете? Быть может, подобно многим другим богословским построениям, Троица просто выдумана духовенством спустя столетия после казни Иисуса в Иерусалиме?
В конце концов, хоть и не без сожаления, я отошла от религиозной жизни, и этот шаг сразу освободил меня от бремени неудач и чувства неполноценности. Я ощущала, как слабеет мое верование в Бога. По правде сказать, Он так и не оставил в моей жизни значительного следа, хотя я всеми силами к этому стремилась. И я не испытывала ни чувства вины, ни сожалений — Бог стал слишком далеким, чтобы казаться чем-то реальным. Интерес к самой религии у меня, впрочем, сохранился. Я подготовила целый ряд телепередач, посвященных ранней истории христианства и религиозным переживаниям. По мере изучения истории религии я все больше убеждалась, что мои прежние опасения были вполне обоснованными. Доктрины, которые в юности принимались без рассуждений, действительно были выдуманы людьми и оттачивались на протяжении долгих столетий. Наука явно избавилась от потребности в Творце, а исследователи Библии доказали, что Иисус никогда не утверждал свою божественность. Во время припадков эпилепсии у меня бывали видения, но я знала, что это лишь симптомы невропатологии; быть может, мистический восторг святых и пророков тоже следует отнести к причудам психики? Бог начал казаться мне каким-то умопомрачением, которое человеческий род давно перерос.
Несмотря на годы, прожитые в монастыре, я не считаю свои религиозные переживания чем-то необычным. Мои представления о Боге сложились еще в раннем детстве, но позднее не смогли ужиться со знаниями в других областях. Я пересмотрела наивные детские верования в деда-мороза; я выросла из пеленок и пришла к более зрелому пониманию сложности человеческой жизни. Но мои ранние путаные представления о Боге так и не изменились. Да, мое религиозное воспитание было довольно необычным, но и многие другие люди могут обнаружить, что их представления о Боге сложились еще в младенчестве. С тех пор утекло много воды, мы отказались от простодушных взглядов — а вместе с ними и от Бога нашего детства.