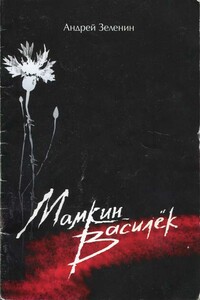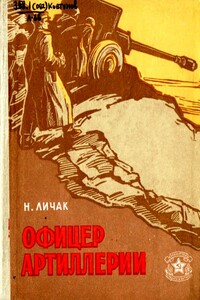Я родился спустя почти двадцать восемь лет после начала и спустя двадцать четыре года после окончания той войны.
Я не мог быть на той войне, но я там был.
Я до сих пор там…
Мой дед Григорий Михайлович Черепахин, срочную отслужив несколько раньше, во второй раз ушёл в армию в мае 1941 года. На краткосрочные сборы. Место их проведения было обозначено чётко: Бершетские лагеря. Не так уж и далеко от родной деревни Черепахи — в течение светового дня пешком дойти можно.
Краткосрочные сборы для многих кунгуряков, березниковцев, оханцев, осинцев оказались не такими уж и краткосрочными. В июне передовой отряд, а за ним и вся 112-я — пермская — дивизия двинулись к границе. Навстречу надвигающейся войне…
До осени никаких вестей в Черепахи не приходило. А там… Почтальонша из своей сумки достала тонкий конверт. В нём была казённая бумага: «Ваш муж пропал без вести».
Бумага эта пришла к моей бабушке, и всю жизнь потом она, Варвара Николаевна, ждала и надеялась на чудо: вернётся всё-таки её Григорий Михайлович с войны. Вернётся домой. Ведь не убит — пропал.
Бабушка надеялась, хотя в другом письме, коротеньком, в пол-листа, пришедшем к её соседке, односельчанин и Гришин друг сообщал: «Григорий был пулемётчиком. Прикрывал отход. Рядом разорвалась мина. Где похоронили Григория, напишу позднее. Начинается бой».
Потом соседка тоже получила казённую бумагу. Но там было написано: «Ваш муж погиб смертью храбрых»…
В 2012 году моей маме, дочери моего деда, пришло из военкомата официальное письмо. Многие дети той войны, ныне старики, получили подобные.
Маме сообщили: «Черепахин Григорий Михайлович погиб 22 июня 1941 года».
Двадцать второго июня началась Великая Отечественная война. Она продолжалась четыре года. Она унесла жизни почти тридцати миллионов советских людей: солдат, старикову женщин и детей, — фашисты не щадили никого.
Ложь, измышления… — как старались когда-то извне, чтобы советские люди забыли, какой ценой досталась Победа. И что это была за война.
У них получилось.
Сейчас не то что дети, многие взрослые в странах бывшего СССР не знают и знать не хотят историю своей страны. Глупые!
Дай Бог, чтобы с ними не случилось того, что случилось с их прадедами, дедами, отцами. И со мной.
1
Мне тогда было двенадцать лет. Я уже перешёл в шестой класс. Была осень.
Вечером болела голова. Сильно.
Спать лёг рано, вроде бы даже десяти вечера не было — двадцати двух ноль-ноль. А проснулся — на рассвете. От холода и почему-то — сырости.
Я огляделся. Меня со всех сторон окружал лес: тёмный, страшный.
Наверное, от испуга я крепко зажмурился и… умудрился заснуть снова.
Во второй раз, окончательно, проснулся уже днём. От голосов, которые раздавались, казалось, отовсюду.
Подскочил я, словно осой ужаленный. И тут же услышал. Сначала:
— Ёлы-палы! Это что за?.. — А затем: — Стоять! Руки вверх!
В нескольких сантиметрах от моей майки, точнее, груди, прикрытой тканью майки, поблёскивало жало штыка.
Штык был винтовочным. А саму винтовку держал в руках молодой парень — лет двадцати или даже меньше.
Парень выглядел почти как настоящий солдат. Одет был в гимнастёрку, соответствующие штаны и сапоги. Вот только гимнастёрка была весьма потрёпана, штаны тоже выглядели не лучшим образом, и сапоги давно утратили свой положенный блеск. Кстати, погон на гимнастёрке парня не наблюдалось, имелись лишь петлицы без знаков различия.
Что-то зажужжало в моей голове. Сначала тихо, потом громче…
Оказалось, впрочем, жужжит снаружи.
— Воздух! — прокричал кто-то. И слово это повторилось ещё несколько раз, будто сам лес кричал: — Воздух!
Потом раздался свист — протяжный, переходящий в вой. И раздался грохот. Такой сильный — земля дрогнула под ногами! И ещё! Ещё! Ещё!
В лесу грохотало, меня мотало из стороны в сторону.
— Контуженный, что ли?! — ругнулся парень в солдатской форме и одним толчком свалил меня на землю, бухнувшись рядом. — Лежи! Не вскакивай! Это фашисты бомбят!
Он кричал что-то ещё, я не слышал. Уши словно ватой забило.
Винтовка солдата лежала теперь рядом со мной — штык поблёскивал на уровне глаз. И, как ни странно, именно в этот момент я не испытывал чувства страха, хотя бояться следовало бы. Не винтовки — бомбёжки. Ведь бомбили по-настоящему. Настоящими бомбами. А я думал о том, что мама будет ругать меня за испачканную майку.
А неподалёку стонали. Длинно, жутко. На несколько голосов.
Я не сразу понял, что снова могу слышать. Поднялся. Пошёл на стоны. Не дошёл.
Меня остановил какой-то командир. В петлицах гимнастёрки было три кубика. «Старший лейтенант», — вспомнил я военную историю; мне нравилось узнавать прошлое своей страны, книг соответствующих я читал много, кое в чём разбирался неплохо, по крайней мере, в званиях.
— Ты кто? — спросил меня старший лейтенант, больно схватив за плечо левой рукой. Правой он нащупывал кобуру пистолета. — Откуда такой? Здесь!
— Товарищ старший лейтенант! — раздался за моей спиной знакомый голос. Это был тот солдат, что, по сути, спас меня во время бомбёжки. — Это я его нашёл! Он, видно, из беженцев. Отбился да потерялся. Контуженный! Не слышит!