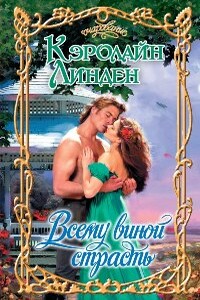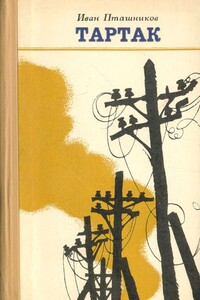Кто бы мог подумать, что Татьяна Светличная вот так выйдет замуж?
Где-то позади осталось епархиальное училище — жизнь на казенных харчах, со строгими классными дамами, монастырскою тишиной, ежедневным обязательным посещением церкви, долгими молитвами и короткими завтраками, с постными, как лицо начальницы, супами.
И с неизменным насмешливым прозвищем «шленки».
Оно прилипало вместе с ученической формой. С первого же дня, когда к родителям выходила уже не их дочка, а незнакомая девчушка в строгом платьице, темном фартучке и с испуганными глазенками, и до той долгожданной минуты, когда взрослая девушка срывала с себя тесную опостылевшую форму, — она была «шленкой».
Еще ни одно слово не наполнялось для Татьяны таким горьким всеобъемлющим смыслом. Достаточно было сказать «шленка» — и уже ничего не требовалось добавлять. Этим было сказано все. И то, что твой отец не богатый священник, а бедненький попик, своеобразный люмпен среди духовенства России; что он не имел возможности послать тебя учиться в гимназию; что платье, которое ты так бережно, осторожно носишь, казенное; и суп, который ты ешь, тоже казенный; и кровать, на которой ты спишь, казенная; и даже как будто воздух, которым ты здесь дышишь, тоже приобретен на казенные средства, выделенные православною церковью детям своих обделенных судьбой служителей.
Потому и не удивительно, что она так и не прижилась в этом училище. Огромные классные комнаты, холодные, гулкие коридоры, спальни со строгими шеренгами узких кроватей, закрытый со всех сторон тяжелыми каменными стенами двор и совсем маленький клочок неба над ним — все это долгие годы жизни в епархиальном училище угнетало ее, сковывало движения, гасило смех. С каким нетерпением ждала она каждый раз летних каникул! Сколько неотложных дел ждало ее!
Приехав домой, прежде всего надо было обежать весь широкий, никакими стенами не отгороженный от внешнего мира двор, ко всему присмотреться, со всеми поздороваться. Ласково погладить рукой шляпку подсолнечника, прижаться к груше, сорвать зеленое яблоко с яблони, выдернуть из грядки молоденькую морковку и с хрустом грызть ее, измазывая землей красный, радостно улыбающийся рот. Повоевать с наседкой, поздороваться с соседским Котьком, показав ему язык через плетень, а если посчастливится, то и напроказить — на радость отцу и матери. И не имеет значения, что быстрая на расправу мамуся угостит «дорогую гостью» веником. Веник издает такой знакомый и приятный запах, так незлобиво бьет, что ей нисколько не больно, и если Таня кричит, то это только для вида. Иначе зачем же тогда и бить ребенка, если он не будет кричать?
И потому, вытерев выступившие на глазах слезинки, Таня отправляется в новые свои путешествия.
И так изо дня в день, целых три месяца, которые вначале кажутся необычайно длинными, а под конец — такими короткими, куцыми, что даже берет тоска.
А все же лето, несмотря на его скоротечность, никогда не теряло своей прелести для Тани. Ведь, кроме всего прочего, оно давало ей возможность пожить рядом с отцом и матерью, сестрой, братом и дедом. Отца надо было уважать и слушаться, маму можно было иногда и не послушаться и крепко любить, с сестрой и братом — ссориться и мириться, а к деду — бегать в гости.
Деда по матери звали Никифором. Был он черный, как цыган, разменял восьмой десяток, имел старую палку с отполированной от долгого употребления ручкой и реденькую бородку. Он, казалось, весь век только и делал, что путешествовал. Отец очень не любил его, называл босяком и бродягою и, что хуже всего, говорил, что у него, деда, нет бога в сердце. Мама покорно вздыхала, тихонько от отца вытирала фартуком слезы, а дети с нетерпением ожидали возвращения старика из очередного похода. Возвращаясь из своего путешествия, дед приносил им гостинцы, от него всегда пахло в те дни чем-то необычным, особенным — далекими дорогами, солнечными просторами, чужими краями.
Вернувшись из путешествия в Хороливку, дед всегда останавливался у соседа и тайком посылал за матерью. Мать приходила от деда с красными глазами, часто сморкалась в фартук и что-то приговаривала про себя, а после обеда, когда отец ложился «на минуточку заморить сон», подзывала детей, давала им горшочек с борщом, мисочку с кашею и пухлые, испеченные на сковороде пышки и тихонько наказывала:
— Отнесите, детки, своему дедушке. Да когда будете идти обратно, смотрите, чтобы отец не увидел.
Дед сидел в соседской хате на скамье — умытый, причесанный, в свежей отцовой рубашке, торжественный, как бог. Принимал от детей обед и наделял их гостинцами.
— Это, детки, земляные орехи, они за океаном растут.
А под конец всем давал по копейке. Копейки были новые, будто дед только что отчеканил их…
Дети, замерев, ждали, пока дед пообедает. Потом подсаживались к нему и раскрыв рты слушали его рассказы.
— Вот, детки, был я на Капказе, — начинал свой рассказ дед. — Там го-оры — на чем только они держатся! Такие высокие, что даже тучи протыкают… А мерик, он, сучий сын, под землей сидит!..
Позже Татьяна поняла, что «мериками» дед называл американцев. А тогда, слушая деда, думала, что разговор идет о чертях, которые живут на «Капказе»: нарыли они там себе нор да и сидят в них, подстерегая честных людей.

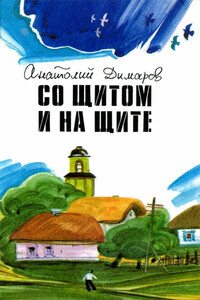
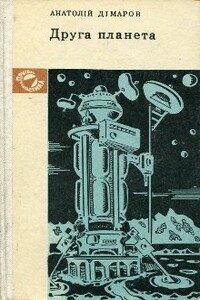
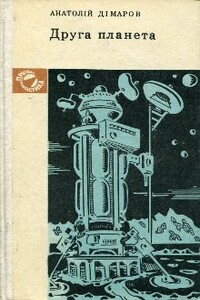



![Преступный мир [воспоминания сыщика]](/storage/book-covers/4f/4f95645136cd97afc5b53e315e8a80bf2a9e75b1.jpg)