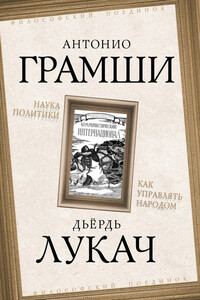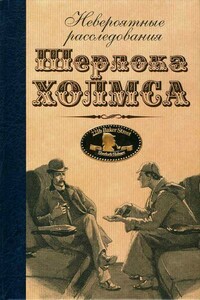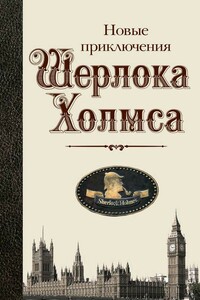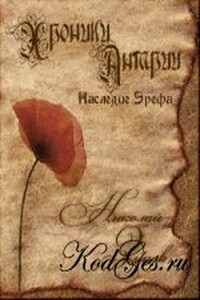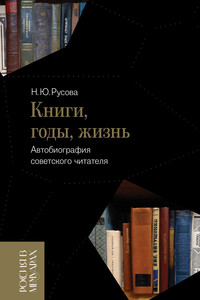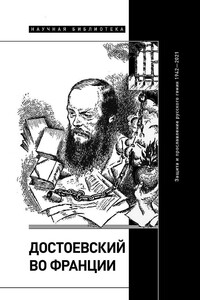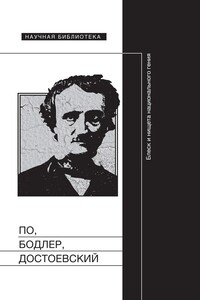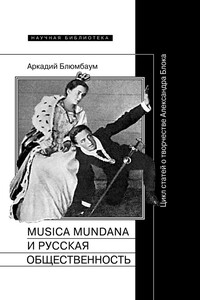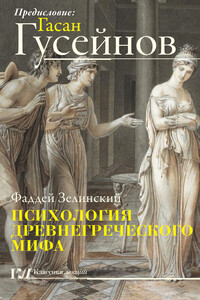Нет сомнений: взаимоотношения между художниками и критиками уже в течение нескольких десятилетий «ненормальны». Они еще не стали «нормальными» и у нас, в советской литературе.
Попыток исправить это положение у нас было немало; наиболее значительная из их числа — дискуссия о критике, недавно состоявшаяся в Союзе советских писателей. Но и ее результаты еще не могут быть определены; только практика покажет, действительно ли начался серьезный поворот.
Как бы то ни было, чтобы воздействовать на общественно-культурное явление, находившееся, по меньшей мере, полстолетия в «ненормальном» состоянии, одной доброй воли недостаточно. Надо еще ясно знать, против чего борешься, как и откуда возникло зло, — только тогда возможен успех.
У нас в Советском Союзе он обеспечен тем, что уничтожены общие предпосылки «неформальных» общественных отношений; остались только идеологические пережитки капитализма, к числу которых, как мы постараемся показать, относятся и «ненормальные» явления в литературе. Положение у нас, таким образом, противоположно положению литературы буржуазных стран, где «ненормальность» общественных отношений все возрастает; там лишь немногие выдающиеся писатели находят в себе силу противостоять общему течению событий. Борьба этих писателей очень важна для современности, но настоящие плоды она даст лишь в будущем, в социалистических условиях жизни. Однако и в социалистическом обществе ни одна ценность сама собой не возникает. Создание ценностей всегда будет требовать серьезного труда.
1
По мере развития капитализма, преобладающий тип литератора — художника или критика — изменялся; должен был меняться и тип их взаимоотношений. Это истина не новая, можно даже сказать — тривиальная.
Так же, до тривиальности, бесспорно, что основная причина этих изменений — капиталистическое общественное разделение труда. Оно превратило и беллетриста и критика в узких «специалистов»; оно лишило их моральные, общественные, политические и художественные интересы той широты и конкретности, которой обладали художники Ренессанса, Просвещения, в период, когда подготовлялись демократические революции. Капиталистическое разделение труда привело к тому, что представления о жизни утратили единство, жизнь стала восприниматься с какой-нибудь одной стороны (искусство, экономика и т. д.); попытки теоретическим путем преодолеть этот распад приводили лишь к рационалистически или мистически сконструированному «синтезу».
Бесспорно, наконец, и общеизвестно, что в последние десятилетия распад охватил всю буржуазную идеологию, и ему противились только немногие гуманисты, бессильные изменить весь ход общественного развития.
Все эти истины приходится, однако, повторять, так как о них нередко забывают, когда решают серьезные вопросы современной литературы, и предпочитают рассматривать эти вопросы так, как будто между современностью и прошлым нет ничего общего.
С тех пор как писатель становится узким «специалистом» — литератором, его художественная восприимчивость превращается в своеобразное ремесло. Если это не подчиняет всех писателей потребностям капитализма, требованиям рынка, то все же отношение писателя к жизни сужается и извращается. Тем самым — и его отношение к искусству.
Оппозиционные, капитализму художники полемически выдвигают на первый план самостоятельное значение искусства, его право на независимость. Благодаря этому падает значение тех больших художественных проблем, которые возникли из общественной потребности в искусстве, из потребности широкого и глубокого изображения тех черт, которые характеризуют целые полосы человеческого развитии. Их место занимают ремесленные приемы, вопросы литературной техники.
Объективные и общезначимые проблемы постепенно исчезают из литературы, в частности, теряется понимание жанров и различия между ними. В этом направлении действует, прежде всего, сама жизнь капиталистического общества, дающая все менее благоприятный для искусства материал. Но есть еще ряд сравнительно поверхностных воздействий, противиться которым оказываются в силах только немногие, необычайно стойкие люди. Фельетон, «режиссерский» театр и кино, современная смешанная форма журналов («Magazin») — все это спутывает и затемняет понятия подлинного искусства. Фабриковать из одного и того же материала фельетонный роман, кинодраму, пьесу для театра и оперу может только человек, утративший какое бы то ни было чувство формы и ее художественной правдивости. Писатель, предоставляющий окончательное оформление образов режиссеру, привыкший делать полуфабрикаты и даже сочинивший «теорию», подходящую для такой практики, конечно, не может сохранить внутреннее серьезное отношение к вопросам искусства.
Ирония истории проявляется, в данном случае, в том, что иные из художников, остроумно и убежденно выступающие против мертвящих сил капитализма, сами содействуют — своими теоретическими взглядами или своей практикой — скорейшему распаду художественных форм. Они выдвигают против грубой нивелировки и непоэтичности буржуазного искусства свое субъективное чувство, свою писательскую оригинальность, не останавливаясь перед самыми рискованными парадоксами; и при этом только «пророчески» опережают развитие всей литературы буржуазного упадка, создают образцы для той нивелирующей моды, которая установится через двадцать-тридцать лет.