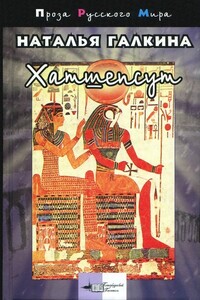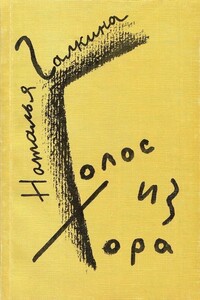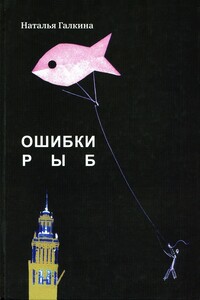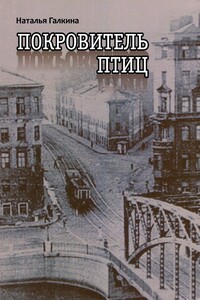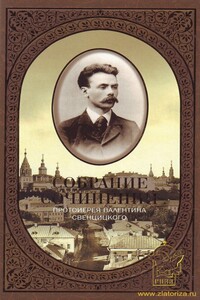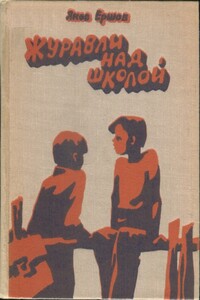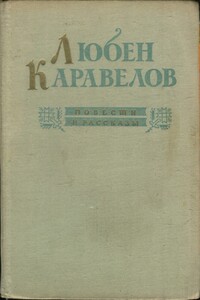Сколько я себя помню, сколько все мы себя помним, Город не переставал удивлять нас. Впрочем, чего было ожидать от места жительства, сложившегося не на торговых путях, не на этих особых точках пересечения силовых линий рек, дорог или огнеупорных глин; нашего-то жительства место возникло железной волею одного человека, задумавшего его, измечтавшего, видевшего во снах, иногда, должно быть, и в кошмарных, — и воплотившего в явь почти насильно. С самой, надо думать, первой минуты, с момента возникновения, главная тема Города — сны наяву. Сны наяву, бродящие по кварталам вдоль порталов, по каналам неудавшимся в духе венецианских.
Итак — Город не переставал удивлять горожан, как бы переставших уже и удивляться. Так сказать, присмотревшихся. В один Новый Год, например, снега не было вовсе. Никаких следов зимы. Все — зловещее, серое; замерзшая сухая земля (лунные, в некотором роде, пейзажи) в парках. Незадолго до полуночи ветер гонял по тротуарам и мостовым (со скрежетом жестяным) сухие листья. Листья неистовствали, как лысогорские ведьмы. Мерзость была изрядная — таково, что не просто атеисту, а научному даже атеисту и лектору по распространению хотелось незаметно перекреститься.
Другой Новый год встречали мы под проливным дождем. Этому и вовсе никто не удивлялся: эка невидаль! Хлопало, капало, лило и остатки робко выпавшего ранее снега смыло к утру.
В тот Новый год, о котором веду я речь, Город предстал в таком морозище, какого более ста лет не помнила многострадальная служба погоды и газеты архивные. Дело ночью шло к сорока градусам ниже ноля по Цельсию. Лопались трубы центрального отопления. По улицам с воем и ревом проносились аварийные машины и только чинить и успевали — если успевали. Печей в домах давно уже не было; мы люди цивилизованные, газом с кухонных-то плит особо квартиру не натопишь, да оно и рискованно; жгли свечи; подтапливались приемниками, магнитофонами, проигрывателями, — всем, что имело хоть какой огонечек. Жгли свет. Дышали.
У Города, кроме всего прочего, было одно феноменальное свойство: он снился время от времени всем жителям, меняя обличья: то представлял на обозрение спящих какие-то недостроенные памятники, соборы, ступени и дворцы, то известные улицы и зданья выказывал в видоизмененном состоянии, играя цветом их и формою, то дразнил несуществующими кладами, то подсовывал потайные квартиры, где их и быть-то не могло (например, в стенке подворотни), и прочее.
Нет ровным счетом ничего удивительного, если принять к сведению вышесказанное, что в Городе водилось изрядное количество чудаков и лиц самых странных. Это в каждом городе, разумеется, российском имеет место, но в нашем процент был небывалый.
Если жили вы, к примеру, в районе Царь-волюты или Царь-цоколя (первый с гранитным цоколем в бельетаж высотою, второй — с гигантской выкрутасиной-волютой на фасаде высотой метра в три), как вам не знать городской сумасшедшей, бродившей здесь годами! С каждым годом эта седая усатая дама меняла обличье: кудряшки завивались все круче, все более лихо заламывались поля шляпок, юбка укорачивалась, пока не исчезла вовсе — в один прекрасный день дама пришла в парфюмерный магазин в потертой меховой курточке, к которой, как всегда, был прикреплен огромный букет искусственных фиалок, и в мятой комбинации; покупательницы ахнули и расступились, продавщица и бровью не повела. Сумасшедшая прижимала рукою в грязной белой перчатке к груди видавшую виды сумочку и обворожительно улыбалась.
Кто не знал старого военного врача со строевой выправкой, каждый день в течение шестидесяти лет в любую погоду переходившего Литейный мост, ведущий к месту его работы? Он переходил его и тогда, когда стал пенсионером, сухонький, с седыми усами, чеканя шаг под проливным дождем и шквальным ветром, несущим Городу очередное наводнение.
Должно быть, и я сам в какой-то степени отношусь к разряду городских чудаков, но странности мои скрытые, посторонний глаз их может и не заметить, но я-то себя знаю. На первый взгляд я — человек дюжинный, хотя и не совсем, а как бы из преуспевающих молодых людей, занимаю в настоящее время пост довольно значительный для моих тридцати с хвостиком; впрочем, обязан тому не столько или не только своим личным достоинствам, сколько положению и заслугам моего покойного отца; я женат, имею дочь, жена моя… но об этом не стоит и говорить. Иллюзий юности я уже лишился, приобрел способность вещать начальственным голосом, но, но, но… Вот в юности, к примеру, было у меня странное свойство — в состоянии алкогольного опьянения шпарить исключительно белым стихом в шекспировском духе. При этом сам стихов не писал отродясь. Не помню, чтобы и пьесами великого английского драматурга зачитывался. А шпарил белым стихом — и все! Ну, и еще одно явление имело место. С детства, с младых ногтей, иногда слышал я не те слова, которые люди говорят друг другу, а те, которые они хотели бы сказать; что называется, слышал контекст вместо текста. За столом, например, когда собирались гости, сослуживцы отца с женами и мамины подруги, и сами отец с матерью, за этим столом узкого круга людей благополучных, обеспеченных, почти интеллигентных, столом, уставленным семгой и осетриной, копченой колбасой и икрой обоих цветов, немыслимыми ракушками с заливным, фаршированными яйцами, корзиночками из картошки и прочая, столом, на середине которого красовались хрустальные одноногие вазы с фруктами и старинные подсвечники со свечами, освещающими панбархатные цветы на нарядных женских платьях и драгоценные камешки в их ушах и на их шеях, и тому подобное, — за этим столом вдруг начинал слышать я не вежливые мало что значащие фразы с вопросительными, восклицательными или утвердительными интонациями, но истинные ноты подводных, подспудных отношений между людьми, мотивы недоверия и правды, любви, зависти, страха и так далее. И неприятное это свойство сохраняю по сей день. Но в данном случае речь не обо мне.