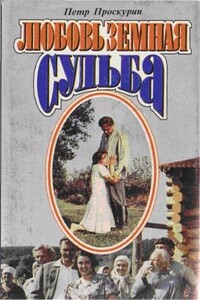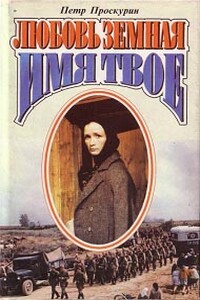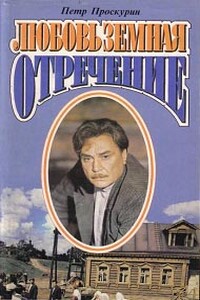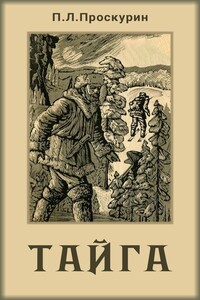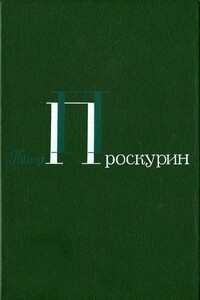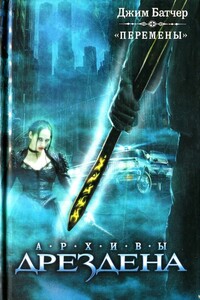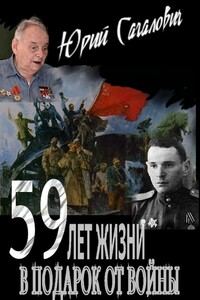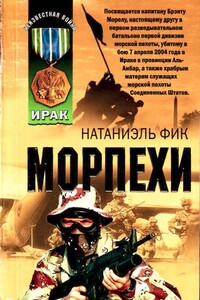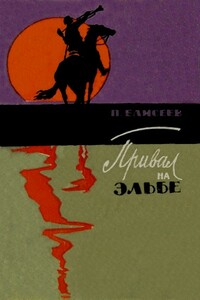1
Буря обрушилась на город в начале июня. Сады Южного предместья первыми приняли на себя ее напор. Слабые, больные деревья погибли, сломанные неистовым шквалом. Более суток ветер выколачивал из города пыль, вступая в единоборство с прохожими и автобусами, швырял в окна домов и в лица людей песок, листья, всевозможный мусор. На вторые сутки над городом разразилась гроза. Она пришла с юго-востока. Белесые, набухшие от влаги облака проплыли бесшумно: ни вспышки молнии, ни громового раската. И вслед за тем небо очистилось. Ветер стих. Почти ощутимое томление наполняло воздух. Смутное беспокойство чувствовалось во всем: и в необычно оживленном поведении детей, и в безветренной тишине воздуха, и в тяжеловато-жарком сиянии солнца.
Часа через два из-за горизонта выползла туча и, охватывая небо широкими свинцово-сизыми крыльями, стала стремительно расти, надвигаться на город с глухим непрерывным гулом. Потускнев, скрылось солнце, и его слабеющий свет широкой полосой хлынул к северу.
Что-то огромное шевельнулось в неподвижном воздухе, помедлило и ударило ураганным порывом ветра. Туча раскололась, сверху донизу пробежала извилисто-огненная трещина, и первый раскат грома с грохотом рухнул на город. Земля вздрогнула. На город обрушились потоки воды; не успевая уходить через канализационные решетки, взлохмаченная и стремительная вода заливала улицы во всю их ширину.
Свинцовой грудью небо навалилось на город; будто сказочный великан сек эту грудь огненной плетью, сек яростно и беспощадно.
Потоки воды, нащупав в теле земли слабые места, начали разрушительную работу. За час образовались овраги, широкие с рваными краями.
Только к вечеру гроза прошла, и в городе началась обычная жизнь.
2
Наливая душистый, приправленный томатом и перцем борщ, Антонина Петровна на вопросительный взгляд сына ответила:
— Отец не придет обедать. Ревизия у него, что ль… — и отвела глаза в сторону.
Витя хмуро уставился в тарелку.
Бедная мама… Что-то скрывает от него и думает, будто он этого не замечает. Ее же выдают и глаза, покрасневшие в последнее время от слез, и морщины, залегшие недавно у губ, и многое другое, незаметное посторонним, но хорошо видимое ему, сыну.
— Ты почему не ешь, Витя? Борщ не нравится?
— Нет, так… Просто задумался. — Витя улыбнулся.
— Ешь. Рано тебе, сынок, задумываться. Отдыхай. Небось и без того от экзаменов голова трещит.
Слегка наклонив голову, она, пока сын ел, с любовью глядела на него. Это уже не вчерашний мальчик с доверчивыми глазами. Взрослеет, меняется. Все чаще она видит его думающим о чем-то своем, ей неизвестном. Лицо становится строже, красивее. На верхней губе все резче проступает темный пушок.
И радостно и грустно Антонине Петровне. Родила, вырастила не хуже, чем у людей. Но сын перерос мать. Все возможное она уже отдала ему, и, кроме заботы о нем, у нее ничего не осталось. Кроме заботы и неистощимой материнской любви. Что ж… Так повелось с начала веков. Родятся, растут, улетают…
«Счастливого пути, сынок. — мысленно напутствовала Антонина Петровна. — Какая мать пожелает сыну плохого? Сын рвется к большой жизни — пусть будет она согрета счастьем».
Вздохнув, Антонина Петровна пошла к плите за вторым. У Вити хороший аппетит. Попадет к чужим людям — не поест так вкусно, как у матери. Но, вопреки ее ожиданию, сын есть второе не стал.
— Спасибо, мама. Больше не хочу.
Проводив его взглядом до двери комнаты, Антонина Петровна вымыла посуду, убрала в шкаф. Присев на стул, задумалась.
«Старею… Через три месяца сравняется сорок…»
Печальная усмешка чуть тронула губы. Раньше говорили: сорок лет — бабий век. Может и правда? Сын жених уже…
Прошлое в ней крепко переплелось с настоящем. Не понять, где кончается одно и начинается другое. Мысли, мысли… Печаль и радость, горе и счастье. На ее долю пришлось всего. Но горя больше, значительно больше. Возможно, не годы, не сорок лет за плечами повинны в ее усталости от жизни?
Подруги приходили на вечеринки в обновках. Она могла лишь переобуться в новые лапотки, намотав взамен серых, новые белые дерюжки, которые берегла пуще глаза.
А жизнь брала свое. За какой-нибудь год девчонка-замухрышка превратилась в девушку-невесту с волнистыми русыми косами, с высокой грудью. По-другому смотрели большие серые глаза. Она и не подозревала, что была красива. Когда парни подходили к ней, сердилась. Ведь она не имела даже самого скромного приданого. И торопиться было некуда — шла война.
Потом революция. Война окончилась. Стали понемногу возвращаться в село солдаты. Возвращались, делили помещичью землю. Уходили опять — защищать ее.
Приглянулась в это тревожное время лихому кавалеристу — Пашке Кирилину дочь вдовы-соседки. Вдова согласилась, хоть и не без тайного страха. Поговаривали на селе, что вовсе не в красногвардейском полку был Пашка, а где-то на Украине у какого-то атамана. Да мало ли чего злые языки не наговорят! На каждый рот замка не повесишь. Может, из зависти говорят. Семья у Кирилиных хорошая, дружная. Вдова решила: пусть хоть девка живет по-людски.
Сыграли свадьбу. А через год уехал Пашка Кирилин, оставив молодую жену у старшего брата Фаддея. Уехал на какие-то курсы, и с год о нем не было ни слуху ни духу. Бабы у колодца начали языки чесать. Завел, мол, в городе другую, при шляпе с пером, с крашеными губами. Плакала по ночам Антонина Петровна, зажав зубами угол подушки. Деверь успокаивал: