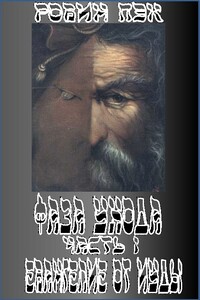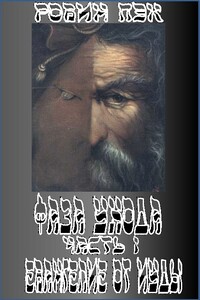"…лился вечный дождь, и полукружие Казанского собора страшно и гулко замыкалось уже где-то на другой стороне Невского, сминая книжный магазин и тот маленький закуток с узкою и тяжелой дверью, где стояли масляные виолончели и торговали нотами в разноцветных блеклых обложках. Был декабрь. И в декабре я вдруг непонятным образом ощутил в себе потребность к ладану и желтым тонким свечам, блестящим ликам апостолов и коровьему мычанию печального батюшки. Суета вечернего и раздвинувшегося вширь города опять поломала меня, мокрые огни расплывались в глазах, ныли суставы, особенно дергало большой палец на правой руке, а меня зачем-то тянуло к скользким ступеням и черной тяжелой двери... Я шел по серой мокрой дорожке и пытался наполнить себя благоговением и золотистым покоем, но у меня не выходило ничего. Мне было больно и горько, и лезла откуда-то из закоулков мертвой памяти назойливая музыкальная фраза, от которой щемило и наворачивались слезы. Был декабрь, десятое число. Ровно два года, и мне совершенно не хотелось вспоминать и, тем более, пытаться вновь почувствовать…"
"…где-то высоко во тьме за иконостасом помещалась тайная вечеря, и если отойти немного вбок, то становилось видно бледное лицо Иисуса, неестественно прямого и строгого, и мне страшно становилось от его укоризненно-благостного взгляда и от этих черных бабок, что тушили недогоревшие свечи, сминая пальцами текучий воск. Бес шептал мне на ухо: все не то, что ты видишь, не бывает возрожденческого Иисуса в белокурых кудрях, томного и покорного судьбе Иоанна, золотых прозрачных свечей и зловещих старух с непримиримыми морщинками вокруг рта... Нет, нет, нет... А их почему-то было особенно много сегодня - в одинаковых телогрейках и необыкновенно ворчливых: нельзя было сидеть на узких деревянных скамьях, держать на плече сумку и прислоняться к каменным колоннам. У одной из них я попытался купить оберегающую молитву, свернутую в блестящий рулончик и запечатанную намертво в целлофан, но когда я заметил, что читать эту молитву, видимо, будет не совсем удобно из-за мелкого шрифта, бабка поглядела на меня как на умалишенного и сказала раздраженно: "Это не читать, это с собой носить!" Мне было странно и стыдно, что не понимаю я таких обыкновенных вещей, я извинился и поспешно вышел…"
"…боялся и чуть не попал под машину. Гулять было глупо - я признался себе в этом, еще не дойдя до поворота на Дворцовую, но из упрямства не повернул сразу назад, а побродил немного у запертых дверей "Искусства", съел отвратительный пирог с творогом и только потом, совершенно выдохшись, побрел обратно. У меня не было с собой оберегающей молитвы, и потому прохожие недружелюбно пихали меня боками и плечами, их сумки и какие-то ящики поддевали полы моего пальто и уносили куда-то недостижимо вперед, мне говорили: "Куда прешь?" и "Дайте пройти", и к тому моменту, когда я все-таки добрался до метро, мои нервы были истерзаны, а в ушах ватными берушами застыли вопли Невского проспекта. Предчувствуя неприятный и нервный разговор с решительным беретом в стеклянной будке у самого крайнего турникета, я сробел, затосковал и пошел зачем-то к аптечному киоску. Берет смотрел на меня подозрительно - его насторожил мой маневр, и я шепотом проклял себя за малодушие, за картонные коробочки нафтизина и сироп от кашля. Меня страшил красный крест, внезапно загорающийся на тупом металлическом рыле турникета, я становился болен при одной только мысли, что вот надо будет идти мимо него, толкая животом толстый круглый палец рогульки, а цепкие глаза из-под малинового берета уже видели мое смятение, и острый указующий перст дамы уже тянулся к роковой кнопке…"
"…совершенно выпачканном пальто и свалянной, неопрятной бороде. Глаза его слезились, а на открытой голой груди болтался медный крест. "Отчего же он не берет мелочи?" - сумбурно думалось мне, а артистический нищий тряс всклокоченными волосами и простирал ко мне заскорузлую длань, что-то бормоча. "Иуда! - вдруг сказал он отчетливо. - Христов предатель!" И, напыжившись и раздувая ноздри, отошел к ювелирным блестящим дверям. Мне было неловко и обидно, к тому же, несколько прохожих оглянулись и посмотрели на меня изумленно. В самом деле, чем я не угодил артистическому нищему? А второй, с металлическим зубом и огромными черными глазами, молодой, бритый и еще не сильно запущенный, смотрел на меня с интересом, прислонившись к окну булочной. "Меня Ваней зовут" - сказал он со странным смешком, выгреб мелочь из моей руки и потопал вперед, оборачиваясь и маня пальцем. И тут, то ли давняя моя болезнь неожиданно вернулась, то ли сломила меня окончательно давешняя неудача в метро, но поплыли далеко вверх фонари и полыхающие вывески, закачались и размазались сдобные караваи и сушки в заляпанном стекле, я сел прямо на мокрый карниз булочной…"
"…только песок и оранжевое солнце. Черноглазый, необыкновенно красивый мальчик сказал что-то по-арамейски, и все рассмеялись. Назарянин тоже усмехнулся и протянул мне чашку. "Ты грек?" - спросил он тихо. - "Ты не понимаешь арамейского". Я кивнул и отпил немного из чашки. Руки уже слушались меня, но подняться все еще не было сил. Арамейский я знал очень плохо, зато по-гречески говорил вполне свободно, уж не знаю, каким наитием сошло на меня это знание... "Откуда ты идешь?" Бог мой, если бы мне знать, откуда, и, главное, куда я иду! "Из… Кериота" - сказал я хрипло, бородатый закивал, всем своим видом показывая, что, мол, он-то знает, что такое Кериот. "Из Кериота" - повторил я смелее, но Назарянин вдруг нахмурился, прикоснувшись пальцем к виску, и как-то непонятно пронзительно взглянул на меня. "Долог путь твой был, человек, - сказал он глухо, - И еще более долгий путь тебе предстоит. Как зовут тебя?" Господи! Я не знаю ничего, нет в моем мозгу ничего, кроме бессмысленных обрывков! На меня неожиданно надвинулась и завертелась рожа бородатого, моргая слезящимися глазками и шипя: "Подаянннияааа!..", сверкнул железным зубом нищий Ваня и похабно так подмигнул, что тут же захотелось его ударить, и перекосился, и вылился в малиновый берет на алюминиевой рогульке, а бородатый заорал: "Иуда!", и какие-то лица двухлетней давности выстраивались в ряд и шептали, болезненно морщась: "Ах… Иуда. Вот это кто, Иуда!" Ну, за что? Почему я - Иуда? Я же не знал, что так будет! Если бы я знал, я бы что-нибудь сделал, я бы сделал что-нибудь! А тут еще бородатый миролюбиво пропел басом: "И человеколюбец!", и я от обиды заплакал…"