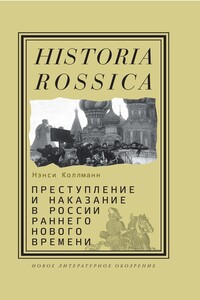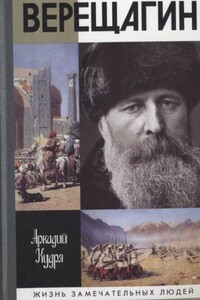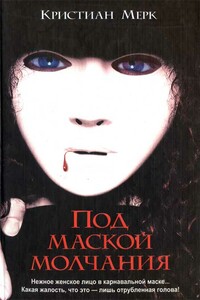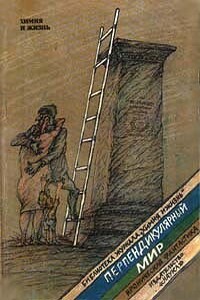Протяни руку. Возьми расческу. Между зубцами скользит снег. Теперь заплети косу. Прядь за прядью. Не смотри, не смотри в зеркало. Ты не любишь зеркал, не надо. Не смотри. Во всяком случае, пока не подействуют таблетки. Три, а не две. Сегодня хуже, чем вчера. Доктор говорил, что такое возможно. Не впадай в панику. Прядь за прядью. Вот так.
Теперь самое трудное. Они лежат, сияют зеркальным блеском, как осколок. Ножницы. Острые, похожие на хищную птицу с защелкнутым клювом. Пальцы продеваются в стальные кольца. Нет, ты не будешь делать этого сегодня. Птица останется голодной, ты не станешь поить ее красным. Не сегодня. Доктор Замир учил тебя так. Каждый день говорить себе: не сегодня. Ты обязательно сделаешь это, но не сегодня. Не сейчас.
Лязг ножниц. На пол падает снег.
Отложи клинок. Руки не дрожат. Ты справился. Еще немного. День, другой. Искусство маленьких шагов, фраза из книги. Ты живешь так уже два года. Значит, у тебя получится. Обязательно. Дай себе шанс.
Какая, право, пошлятина…
Ощущаешь тошноту от навязанных чужих слов? Плохо. Это ты — прежний. Тот, кого не должно быть здесь. Но сердцебиение успокаивается, раздражение глохнет. Ты чувствуешь, как тебя вымораживает изнутри. Это действует лекарство. Можно поднять глаза. Что ты видишь?
Джереми Дэвис стоял перед зеркалом и пристально рассматривал себя. Полностью сменить имя ему не позволили — доктор говорил, нужна самоидентификация. Связь с прошлым. Он не согласен, но подавление собственного несогласия уже стало привычным. Некая садистская игра с самим собой.
Что ты видишь?
Уже тридцать два, но лицо почти не изменилось. Только выражение глаз. Белые волосы рассыпались по плечам. Когда-то они чуть золотились, это замечал лишь он сам. Теперь просто белые.
«…как снег убелю…»[1]
Книга в темной обложке лежала в доме восемнадцать лет, и он ни разу не видел даже титульного листа. Почему он решил открыть Библию потом, в клинике? Уж точно не для того, чтобы найти ответы. Многие стихи запали в память, раня или утешая. Доктор Эйтан Замир спрашивал потом, не страшно ли читать о наказаниях за грехи? Понимает ли Джерри, что читает? Джереми отлично понимал Бога. Ту его часть, что была связана с «огнем поядающим»[2]. В ярости еще не такое творят, чего тут непонятного… Особенно если обладаешь силой. А наказанием может быть и жизнь. Само ее наличие. Человеку созданный Богом ад не нужен — он всегда сумеет организовать его себе сам. Для наказания достаточно помнить прошлое. И жить с этим.
Джереми наклонился и подобрал обрезки рассыпавшейся косы.
Он пробовал однажды сходить в парикмахерскую. Это было еще в самом начале, сразу после выписки. Дойти получилось только до дверей. Сквозь стеклянные створки виднелись посетители — девушка, зевая, листала вылинявший журнал, дедушка улыбался внуку, который с увлечением перебирал цветные бигуди в коробке…
Все они могли бы сейчас погибнуть. Все они. Совсем как те, другие.
«Сэр, вам плохо?»
Двое прохожих парней смотрели на него с участием.
Они тоже могли бы умереть.
Джереми развернулся и побежал. Трясти его перестало только тогда, когда между ним и миром оказалась створка двери и две голубые таблетки.
Теперь он бы смог. Он заново научился выходить на улицу и, по необходимости, говорить с людьми. Но все же предпочитал раз в несколько месяцев плести косу, отрезать чуть ниже шеи и слегка подравнивать концы. Хоть на дворе уже и стоял 2032-й год, подобная прическа уже лет сорок не выходит из моды. Для того, чтобы жить в обществе нужно, как минимум, выглядеть нормальным.
Два года своей жизни Джереми не помнил вообще. От восемнадцати до двадцати — этот промежуток в памяти был похож на комок мокрой ваты. Потом его перевели в другую клинику, в Огайо. Невзирая на возражения врача, с Джереми говорила следователь по делу Рокки-Лэйк. Тогда, накачанный лекарствами, он почти безучастно слушал и отвечал на вопросы. А потом мозг расставил по местам недостающие куски паззла. Память стала возвращаться вместе с осознанием. Раскаленным свинцом текла в горло, несмотря на сопротивление. Врачам пришлось вновь вернуть его на тяжелые препараты, погрузить в спасительное состояние небытия. В один из проблесков он требовал от санитаров убить его.
— Какая вам разница?!
Дюжий темнокожий медик тогда прижал Джерри к кровати и, улыбнувшись нехорошей улыбкой, прошипел:
— Умереть проще всего. Это для слабаков.
Отрицание. Ярость. Обвинения. Темные бездны отчаяния. Кажется, до стадии принятия и теперь еще далеко…
* * *
— Я хочу обратно. Пожалуйста.
— Каждые полгода ты просишь об одном и том же.
— И каждый раз получаю отказ.
Вздох доктора Замира лег облаком на микрофон мобильника, Дэвис ощутил его улыбчивую теплоту.
— Потому что ты хорошо справляешься, Джерри. Тебе не нужны стены. Жизнь прекрасна, не спорь. Вспомни, что ты любишь…
Джереми невольно бросил взгляд на маленький телескоп у окна. Подарок доктора Замира на прошлый день рождения.
— …звезды, твои буквы, — продолжал Эйтан. — Что ты чувствуешь, когда проводишь кистью по бумаге?
— Я мог бы заниматься этим и в клинике.
Фраза прозвучала почти по-детски обиженно, но Замир не стал смеяться. Помолчав, он добавил: