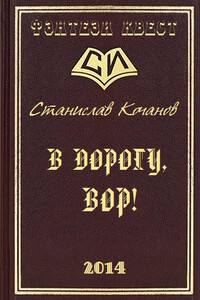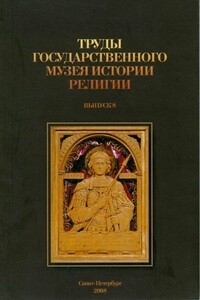§ 1
Среди всех так называемых «языческих» религий нет ни одной, которая была бы нашей интеллигенции в одно и то же время и так хорошо известна и так глубоко неизвестна, как древнегреческая. Это может показаться парадоксальным, и тем не менее это так.
Ее известность — осадок двух эпох. Во-первых, эпохи французского классицизма (не будем заглядывать далее) XVII в. с его культом греческой мифологии и в поэзии, и в изобразительном искусстве, и во всей тогдашней «галантной» жизни. Как известно, этот классицизм перекинулся и к нам, изучение греческой мифологии стало обязательным предметом несложного образования немногочисленной русской интеллигенции, и краткое греческое руководство Аполлодора стало первой грекоязычной книгой, переведенной и напечатанной по-русски по приказу самого императора Петра I. Отсюда популярность греческих богов — правда, по традиции того же французского классицизма, более в их латинских наименованиях. Они положительно вытеснили из сознания людей христианских святых; и верующий интеллигент, для которого и св. Пантелеймон, и св. великомученица Варвара, и даже сам св. Николай Чудотворец были лишь простыми, хотя и произносимыми со священным трепетом именами, — соединял в то же время очень определенные представления с Зевсом-Юпитером и Герой-Юноной, со строгой Палладой-Минервой и легкомысленной Афродитой-Венерой, с воинственным Марсом и хитрым Меркурием.
Определенные, без сомнения; только правильные ли? Вот вопрос. И ответить на него приходится: нет, безусловно неправильные. Именно популярность греческой мифологии была сильнейшей помехой пониманию греческой религии: она была одной из главных причин того, что эту греческую религию, как таковую, отказывались принимать всерьез. Тон задавал Овидий, певец галантного Рима эпохи Августа, столь родственной по настроению веку французского короля-Солнце; а в роскошном цветнике его «Метаморфоз» можно было найти какой угодно аромат, кроме религиозного. Неисправимый волокита Юпитер, ревнивая и сварливая Юнона, вороватый Меркурий, кокетливая Венера, склонный к выпивке Вакх — помилуйте, какая же это религия!
Это, повторяю, осадок одной эпохи, эпохи французского классицизма. Ее вредное влияние было отчасти уравновешено концом XVIII в. и началом XIX, эпохой так называемого «неогуманизма» — Винкельмана, Гете, Шиллера. Произошла реакция, но главным образом на эстетической почве. Зевс Фидия даже в тех позднейших преломлениях, которые только и знал Винкельман, — это все же не овидиевский сластолюбивый вельможа, и Гете не даром так любил его супругу, мнимополиклетовскую Геру, от которой на него веяло, "как от поэмы Гомера". И все же эта реакция, самым красноречивым выражением которой был восторженный гимн Шиллера в честь "богов Греции", была исключительно эстетического характера: античные божества, объявляющиеся в красоте, противополагались христианскому в его исключительной духовности; и когда Гете в незабвенной сцене изобразил свою замученную Гретхен в молитве перед Богородицей — "о склони, Многострадальная"… — ему и в голову не приходило, что в сущности она у него призывает прямую наследницу древней богини, прообраза скорбящих, Деметры.
Требовалось очень внимательное изучение древнего мира для того, чтобы греческая религия получила свою справедливую оценку; это изучение производилось, разумеется, в недрах науки о древнем мире — классической филологии. Не сразу были найдены верные пути: иные прямо завели исследователей в дебри, другие, будучи сами по себе хорошими, все же не вели к той цели, которую мы имеем в виду здесь. Увлечения винкельмановских времен в связи с мистицизмом Сведенборга и Калиостро (прошу припомнить настроение нашей Александровской эпохи) повели к пышному расцвету древнегреческого «символизма» (Сент-Кроа, Крейцер), вызвавшему в свою очередь крайнюю реакцию в духе минувшего «просветительства» (Фосс, Лобек), после которой как-то неловко было даже заикаться о благодати элевсинских мистерий. Богатый сравнительно материал, доставленный изучением священных книг Индии и Ирана, поставил ребром вопрос о происхождении греческих представлений о богах; решали его обыкновенно в духе физического монизма, исходя либо от световых ("солярная теория" Макса Мюллера и др.), либо от атмосферических явлений (Форхгаммер). Но не говоря уже о несомненных односторонностях и заблуждениях, ясно, что греческая религия как таковая могла быть только затемнена всеми этими толкованиями. Пусть Паллада-Афина была первоначально грозовой тучей, что очень вероятно; все же это была не та Афина, которая, по религиозному представлению Солона, простирает свои руки над его родиной и своим великодушным заступничеством спасает ее от гибели. — Ясно, что и методы "исторической школы", изучавшей развитие культов в ранние эпохи странствований и скрещений греческих племен, непосредственно не вели к выяснению сущности греческой религии; и если тем не менее имя основателя этой школы, Отфрида Мюллера, должно быть названо с честью как имя одного из главных иерофантов эллинизма, то это благодаря тому, что он и в своих книгах об истории греческих племен, и в своем издании «Евменид» Эсхила сумел соединить генетическую цель своих трудов со служением той задаче, о которой речь идет здесь.