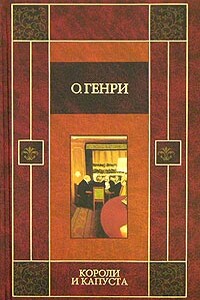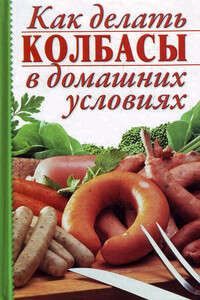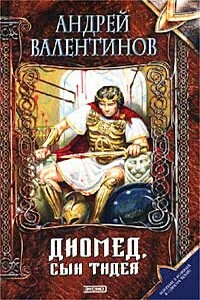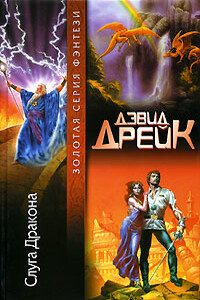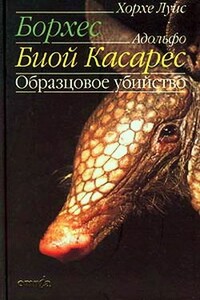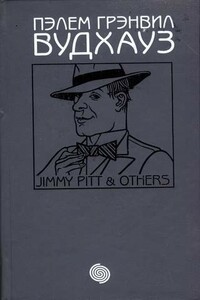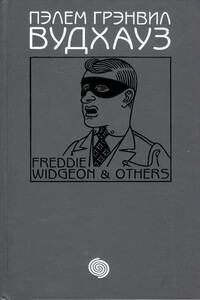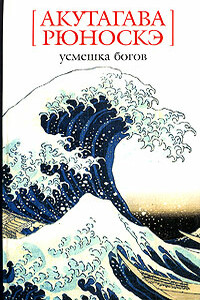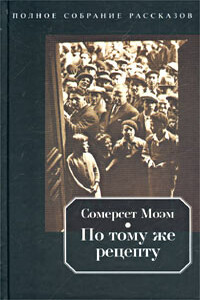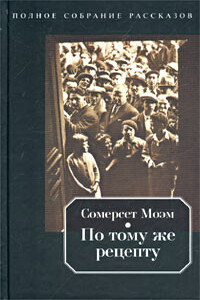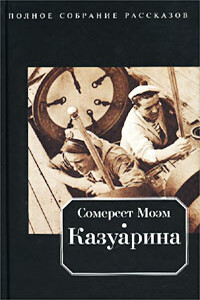Передо мной лежат дороги,
Куда пойду?
Верное сердце, любовь как звезда, —
Они мне помогут везде и всегда
В бою обрести и как песню сложить
Мою судьбу.
Из неопубликованных стихотворений Давида Миньо
Песня смолкла. Слова были Давида, мелодия – народная. Завсегдатаи кабачка дружно аплодировали, так как молодой поэт к тому же платил за вино. Только нотариус, господин Папино, прослушав стихи, покачал слегка головой, – он был человек образованный и пил за свой счет.
Давид вышел на улицу, и ночной деревенский воздух освежил его голову, затуманенную винными парами. Тогда он вспомнил утреннюю ссору с Ивонной и свое решение покинуть ночью родной дом и отправиться в большой мир искать признания и славы.
«Когда мои стихи будут у всех на устах, – взволнованно говорил он себе, – она еще вспомнит жестокие слова, которые сказала мне сегодня».
Кроме гуляк в кабачке, все жители деревни уже спали. Давид прокрался в свою комнатушку в пристройке к отцовскому дому и связал в узел свои скудные пожитки. Перекинув узел на палке через плечо, он вышел на дорогу, уводившую из Вернуа.
Он миновал отцовское стадо, сбившееся на ночь в загоне, стадо овец, которых он пас ежедневно, – они разбредались по сторонам, когда он писал стихи на клочках бумаги. Он увидел свет, еще горевший в окне у Ивонны, и тотчас его охватили сомнения. Этот свет, не означает ли он, что она не может уснуть, что ее мучает раскаяние, и утром… Но нет! Решение принято. В Вернуа ему делать нечего. Ни одна душа здесь не понимает его. Вперед по этой дороге, навстречу своему будущему, своей судьбе.
Три лье[1] через туманную, залитую лунным светом равнину тянулась дорога, прямая, как борозда, проведенная плугом пахаря. В деревне считали, что дорога ведет по крайней мере в Париж; шагая по ней, молодой поэт не раз шептал про себя это слово. Никогда еще Давид не уходил так далеко от Вернуа.
Дорога налево
Итак, три лье тянулась дорога и вдруг озадачила его. Поперек ее пролегла другая дорога, широкая и торная. Давид постоял немного в раздумье и повернул налево.
В пыли этой большой дороги отпечатались следы колес недавно проехавшего экипажа. Спустя полчаса показался и сам экипаж – громадная карета, завязшая в ручье у подножия крутого холма. Кучер и форейторы[2] кричали на лошадей и дергали за поводья. На краю дороги стоял громадный мужчина, одетый в черное, и стройная женщина, закутанная в длинный, легкий плащ.
Давид видел, что слугам не хватает сноровки. Недолго думая, он взял на себя роль распорядителя. Он велел форейторам замолчать и налечь на колеса. Понукать животных привычным для них голосом стал один кучер; сам Давид уперся могучим плечом в задок кареты, и от дружного толчка она выкатилась на твердую почву. Форейторы забрались на свои места.
С минуту Давид стоял в нерешительности. Мужчина в черном махнул рукой. «Вы сядете в карету», – сказал он: голос был мощный, под стать всей фигуре, но смягченный светским воспитанием. В нем сказывалась привычка повелевать. Непродолжительные сомнения Давида были прерваны повторным приказанием. Давид встал на подножку. Он смутно различил в темноте фигуру женщины на заднем сиденье. Он хотел было сесть напротив, но мощный голос снова подчинил его своей воле. «Вы сядете рядом с дамой!»
Мужчина в черном тяжело опустился на переднее сиденье. Карета тронулась в гору. Дама сидела молча, забившись в угол. Давид не мог определить, стара она или молода, но тонкий, нежный аромат, исходивший от ее одежды, пленил воображение поэта, и он проникся уверенностью, что под покровом тайны скрываются прелестные черты. Подобное происшествие часто рисовалось ему в мечтах. Но ключа к этой тайне у него еще не было, – после того как он сел в карету, его спутники не проронили ни слова.
Через час Давид увидал в окно, что они едут по улице какого-то города. Вскоре экипаж остановился перед запертым и погруженным в темноту домом; форейтор спрыгнул на землю и принялся неистово колотить в дверь. Решетчатое окно наверху широко распахнулось, и высунулась голова в ночном колпаке.
– Что вы беспокоите честных людей в этакую пору? Дом закрыт. Порядочные путники не бродят по ночам. Перестаньте стучать и проваливайте.
– Открывай! – заорал форейтор. – Открой монсеньору маркизу де Бопертюи.
– Ах! – раздалось наверху. – Десять тысяч извинений, монсеньор. Кто ж мог подумать… час такой поздний… Открою сию минуту, и весь дом будет к услугам монсеньора.
Звякнула цепь, проскрипел засов, и дверь распахнулась настежь. На пороге, дрожа от холода и страха, появился хозяин «Серебряной фляги», полуодетый, со свечой в руке.
Давид вслед за маркизом вышел из кареты. «Помогите даме», – приказали ему. Поэт повиновался. Помогая незнакомке сойти на землю, он почувствовал, как дрожит ее маленькая ручка. «Идите в дом», – послышался новый приказ.
Они вошли в длинный обеденный зал таверны. Во всю длину его тянулся большой дубовый стол. Мужчина уселся на стул на ближнем конце стола. Дама словно в изнеможении опустилась на другой, у стены. Давид стоял и раздумывал, как бы ему распроститься и продолжать свой путь.
– Монсеньор, – проговорил хозяин таверны, кланяясь до земли, – е-если бы я з-знал, что б-бу-уду удостоен т-такой чести, все б-было бы готово к вашему приезду. О-осмелюсь п-предложить вина и х-холодную дичь, а если п-пожелаете…