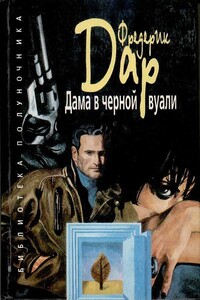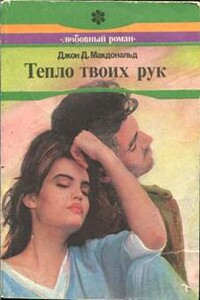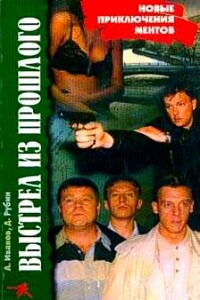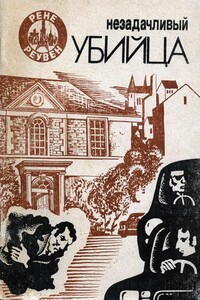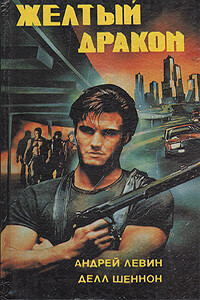Заложив руки под голову, я уже, наверное, битый час наблюдаю за ходом мушиного митинга на белом потолке. Удивительно забавные эти чернокрылые создания. Такое впечатление, что ими движет внутренняя пружина, и поэтому они перемещаются в странном подпрыгивающем аллюре. Примерно так же, как переходят улицу престарелые дамы. Мухи то и дело застывают на месте, чтобы втянуть хоботком немного питательной пыли или переждать наезд очередного насильника. Мой вам совет, парни, когда до умопомрачения надоедает человечество, то оставьте его в покое со своими проблемами и понаблюдайте за мухами! Уверяю вас, они преподнесут вам урок простого бытия!
Я заставляю себя пошевелиться, исходя из трех соображений: во-первых, вытащить из-под одеяла острую кнопку, во-вторых, препятствовать началу развития анкилоза в левой ноге и, в-третьих, спугнуть сонливость, заманивающую меня в цепкие объятия Морфея.
Не поворачивая головы, спрашиваю Пино:
— Ну, что он там делает?
Старый циклоп медлит с ответом, и я уже готов высказать в его адрес все, что он заслуживает, но Пино вовремя остужает мой порыв своим спокойным «ничего».
— Его врожденная бездеятельность сродни гениальности! Ты не находишь? — высказываюсь в адрес старого хмыря, за которым мы с Пино наблюдаем уже второй день.
Пино отнимает свой остекленевший глаз от видоискателя подзорной трубы, установленной напротив дыры в шторе.
— А что ты хочешь от него? — спрашивает он с философским спокойствием, что является одним из достоинств моего коллеги.
— В его возрасте быть затворником, это же... это...
Не найдя нужных слов, я вскакиваю с кровати, которая издает агонирующий вопль, и подхожу к Пино. Он уступает мне свое место наблюдателя.
Сильная оптика позволяет довольно детально рассмотреть комнату в отеле по другую сторону двора. Вижу и нашего хмыря. Он сидит все в той же позе на краю дивана с потухшей сигаретой во рту. Это худой, смуглый тип, угловатый, как готический собор, давно небритый, в рубашке, которая ждет своей очереди то ли в прачечную, то ли к тряпочнику. Рядом с ним на полу блюдце, полное окурков.
Нет, я не могу долго созерцать подобное безобразие и решаю успокоить свое возмущение небольшим количеством виски.
Горлышко бутылки, окупировала муха! Стыдно, но я прогоняю летающую алкашку, чтобы самому занять ее место.
— Пинюш, глоток?
— Спасибо, но я предпочитаю вино.
Он величественно параболическим жестом достает из тумбочки бутылку белого вина.
— Ну и работенка,— вздыхает мой друг, сделав несколько глотков из горла.— У меня уже онемели все без исключения члены!
— Еще бы! Ты ведь обязан сидеть, словно приваренный к стулу. У тебя работа такая! Но что заставляет его? Знаешь, это уже похоже на какую-то аномалию. Он сидит в своей берлоге, словно лев, пожираемый молью. Его поведение начинает бесить меня!
— А у меня такое ощущение, что я наблюдаю за ним с такой же жадностью, как если бы заплатил сто франков, чтобы с Эйфелевой башни полюбоваться Парижем.
Я смеюсь:
— И это называется службой! И этим занимаются два прекрасных флика: ты и я!
— Когда я служил в армии...— начинает атаку на мои уши Пино своим очередным воспоминанием, которых у него бездонный кладезь, и которыми он заполняет вакуум событий в своей настоящей жизни.
— А кем ты был в армии? — своим вопросом я подвожу его воспоминание к финалу.
— Наблюдателем! — с гордостью отвечает Пино.
— А за кем или за чем ты наблюдал там?
— За дислокацией противника!
— Теперь мне понятно, почему Франция проигрывает каждую вторую войну.
Он только пожимает плечами. Мой сарказм уже давно не задевает его. Он смирился с ним, как впрочем, и остальные сорок три миллиона французов. Когда он получает увесистый пинок под зад, когда суп холодный, а женщина, наоборот, очень знойная, когда туфли тесные, а орден Почетного легиона достался не ему, Пино не очень кручинится. Он идет по жизни, не замечая ее, словно бык! Седые волосы уже наполовину оставили его голову, те же, что хранят еще ей верность, он периодически взбивает кончиками пальцев, словно чуб в далеком розовом детстве.
— Ты знаешь, о чем я думаю? — спрашиваю я Пино.
— Не знаю.
— Тебе надо как-нибудь собраться с духом и хорошенько помыть голову, чтобы увидеть настоящий цвет своих волос. Может, ты уже совсем поседел?
Пинюш хранит гордое молчание. Он очень похож на старого бедного и очень интеллигентного музыканта. Милый, добрый Пинюш...
— Иди посмотри,— кличет он меня.
Я сменяю его у подзорной трубы.
— Тебе не кажется странным поведение нашего объекта?
Я не возражаю: в поведении того типа появились новые нюансы. Лицо его мрачное, словно первая страница газеты «Ле Монд»[1]. Это первое, что бросается сразу в глаза. Второе,— он стоит! Вытащив сигарету изо рта, он держит ее в кончиках пальцев, застыв в позе напряженного ожидания. Чего? Кого?