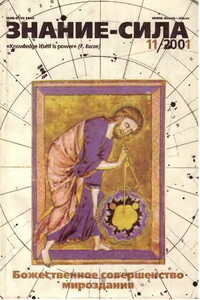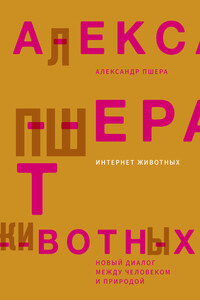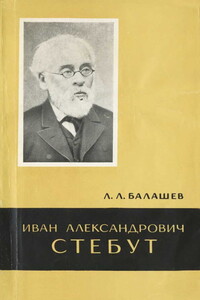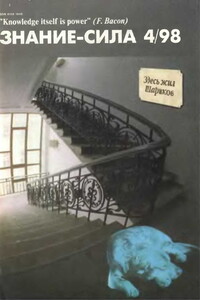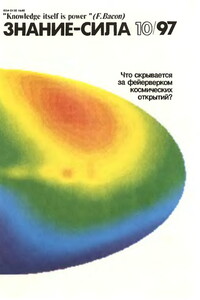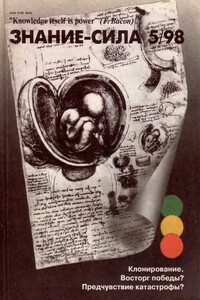С другой стороны, здесь возможны ошибки, и очень серьезные. Вопросы не возникают, пока рассматривается только поэтическая фактура, сюжет, композиция образцов вербального фольклора. Но для традиций народной культуры вообще и для фольклорных произведений в частности это отнюдь не исчерпывающее знание. Нужно учитывать прагматику текста, его функцию, и здесь прием его рассмотрения в качестве имманентной структуры может сыграть с исследователем злую шутку.
Например, лингвист или этнограф, не занимающийся специально фольклорными жанрами, приезжает к какому-то народу. Он записывает там некие повествования, называя их сказками — в соответствии с теми образцами, которые ему известны, а это в большом количестве случаев тексты европейской культуры. Однако при более близком рассмотрении оказывается, что никакие это не сказки, а мифы. У них иная модальность, они иначе функционируют, они имеют другое значение в данной культуре, хотя их структура очень близка к сказочной. Скажем, сюжет, очень похожий на всем известную сказку «Мальчик-с-пальчик», где-то в архаических традициях существует в виде посвятительного мифа, хотя несведущий исследователь вполне может счесть его сказкой. Подобных случаев довольно много.
Это вызывает законное недоверие к языку и матрицам описания, которые используются при взгляде на предмет извне. Так в антропологии возникает направление, родоначальником которого является Бронислав Малиновский. Согласно этому направлению, надо жить в данной культуре, жить жизнью тех людей, которых ты изучаешь, полностью проникнуться их интересами, в каком-то смысле стать носителем их традиций. На этом пути антропология середины ХХ века достигла очень больших успехов.
Однако в каких-то случаях становилось понятно, что здесь таится некая методологическая западня. Человек не способен полностью отождествиться с другой культурой. Фигурально выражаясь, Миклухо-Маклай не может стать папуасом. Как бы он ни старался, он не сможет стереть из памяти то, что знает о своем «допапуасском» прошлом — а это неминуемо будет накладывать отпечаток на всю его деятельность и на те познавательные матрицы, которыми он располагает. Более того, это и не нужно, потому что, превратившись в носителя аборигенной культуры, он перестанет быть ученым, а его исследование будет невозможным.
Оказывается, надо сделать шаг назад и взглянуть на изучаемый предмет немного со стороны. Это стало особенно очевидно в тех случаях, когда мы начали изучать современный городской фольклор, то есть фольклор, носителями которого являемся мы сами, жители российских городов. Одна из трудностей заключалась в том, что почти невозможно отделить в себе информанта от исследователя. Скажем, я — такой же носитель традиции, как, например, былинный сказитель, и записываю по памяти песенку, но не уверен в некоторых словах. Что я должен делать? Есть понятие аутентичности текста: я должен записать песню так, как она звучала, а я не все помню. Мне кажется, что вот эдак будет хорошо — ведь я же носитель и могу воспроизвести текст так, как считаю удачным. Это сложный вопрос, до конца не решенный. Кстати, с песенками проще: у них метрическая структура, мелодия, она как-то держит слова. А вот анекдот — попробуйте пересказать его по памяти, записать вечером то, что вы услышали утром! Не получится. И это — нормальное свойство устной традиции, она так устроена. Но здесь, повторяю, возникает сложная проблема соотношения носителя культуры и ее исследователя. Таким образом, экстериоризация «своего» оказывается методологически не менее важной, чем интериоризация «чужого».

Кроме того, надо учитывать и последствия вмешательства антрополога в изучаемый материал. При любом экспедиционном исследовании — будь то в русской деревне или в монгольском кочевье — мы оказываемся в положении людей, вторгшихся в чужое пространство, и уже самим своим интересом к данной традиции производим в ней некоторое возмущение. Это неизбежно. Будет меньше возмущения, если мы перестанем проявлять к ней интерес, но тогда мы не сможем и заниматься ею.
И здесь опять-таки возникает сомнение в достоверности фольклорных текстов. В каких только условиях люди не получали материалы для классических фольклорных собраний! Записи под диктовку сказителей, за деньги, хитростью, по принуждению, с помощью полиции — как угодно, то есть в самых неестественных условиях. А, скажем, аутентичность похоронных плачей или заговоров, специально надиктованных собирателю? Понятно, что это не совсем «те» тексты, причем мы точно не знаем, что именно в них изменилось. Вообще есть целый ряд ситуаций, в которые собирателя не допустят или в которых невозможно записывать. Приходится довольствоваться тем, что доступно. Знаменитые записи Федосовой именно в этом отношении сомнительны. На самом деле антропологи, исследователи народной культуры, фольклористы обычно знают, что при анализе подобных записей каждый раз нужно учитывать какие-то «коэффициенты искажения», и с большей или меньшей степенью осознанности это делают, иначе нельзя.
С другой стороны, зоолог, который препарирует лягушку, получает довольно много информации, хотя лягушка тоже находится не в очень естественном положении. Что делать, наука так устроена — приходится считаться и со «стендовыми» условиями получения некоторых данных.