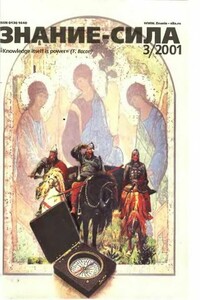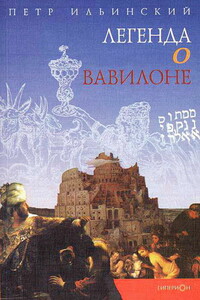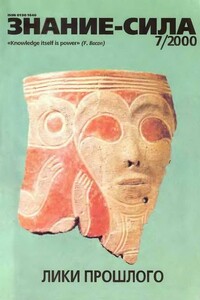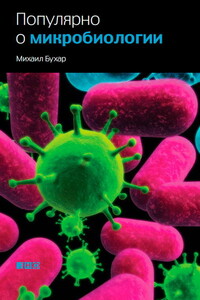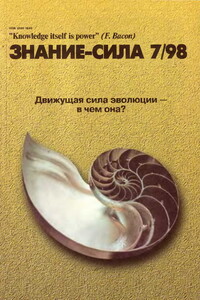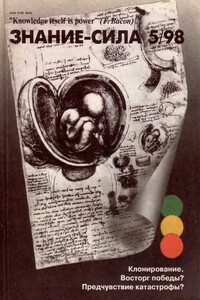— К сожалению, это так. Но исторический миф — это достаточно сложное явление и устойчивым, долговременным он становится тогда, когда возник в ответ на какую-то общественную потребность. И пока эта потребность существует, он может жить вопреки любым утверждениям науки, да и сам становится явлением истории, если достаточно долго влияет на массовое сознание. Например, ученые пришли к выводу, что князь Святополк Окаянный не убивал Святых Бориса и Глеба; есть много оснований, чтобы заподозрить в этом убийстве Ярослава Мудрого — но миф об Окаянном «живет и побеждает». Теперь доподлинно известно, что Дмитрий Донской не ездил перед Куликовской битвой за благословением к Сергию Радонежскому, но это важно лишь для самих ученых. В массовом сознании эти мифы зародились столько веков назад, что давно уже живут собственной жизнью. И такое происходит повсюду. Для нас они порой просто больше значат.
Есть другая проблема: ответственность писателя, режиссера, журналиста — тех, кто участвует в формировании массовых представлений о прошлом. В отличие от ученого, они имеют право на художественный вымысел. Но, на мой взгляд, этот вымысел не должен извращать общеисторических представлений настолько, что это становится, по-моему, опасно для массового сознания. Не потому, что писатель позволил себе излишнюю вольность. Опасными могут стать ценности, которые он проповедует своим произведением. Мне представляется: автор, художник имеет право на вымысел того, что, согласно историческим источникам, могло бы быть, но он не вправе домысливать то, чего быть не могло.
В массовом сознании циркулируют мифологемы и об исторической науке. Одна из них, что история никого и ничему не учит. На мой взгляд, это просто один из красивых и пустых афоризмов. XX век дает немало примеров того, что история может учить, если для этого есть желание и если человек вообще в состоянии учиться на чужих ошибках. Мне кажется, например, что ужасы гражданской войны начала прошлого века до сих пор живут в подсознании народа, воспоминание о них передается новым поколениям, их не видавшим — и именно это (конечно, вкупе с другими факторами) уберегло нас от гражданской войны во время распада Советского Союза.
С другой стороны, от истории часто ожидают, что она выявит какие-то закономерности исторического развития, на основании которых можно предвидеть будущее. Некоторые именно в этом видят доказательство научности истории. Но история заставляет усомниться в том, что какие-то закономерности вообще существуют. Вдобавок предсказание будущего — не дело историка, да и любые долгосрочные программы и прогнозы весьма приблизительны. Несколько месяцев назад мы не могли предвидеть нынешний экономический кризис. А в начале 1991 года мало кто предсказывал распад Советского Союза.
Инструкторская школа 27-й стрелковой дивизии направляется на позиции. Западный фронт, 1920 г.
— А как насчет истории как «продажной девки», это тоже расхожее мнение?
— Историю всегда использовали как средство пропаганды — не историческую науку, а саму историю, знания о прошлом. Долгое время это делалось не слишком осознанно и целенаправленно, просто апеллировали к прошлому, потому что в традиционном обществе это как бы конечная апелляция: заветы предков — и все тут. Но в современном мире власть использует историю сознательно и целенаправленно.
Мы живем в стране, появившейся на карте мира менее двадцати лет назад и для нас проблема самоидентичности достаточно остра. Понятно, что люди здесь жили много веков, у них своя история, традиции, обычаи. Но они уже не строители коммунизма, не граждане первого в мире социалистического государства рабочих и крестьян — а кто тогда? В такие переходные моменты всегда и у всех народов обостряется интерес к прошлому: так было во Франции времен революций, в Германии времен Третьего рейха. Это нормально, потому что представления о прошлом — важнейшая составляющая идентичности и отдельного человека, и целого народа. Обостряется потребность идентифицировать себя с героическими, светлыми образами прошлого.
— Обязательно героическими и светлыми?
— Конечно. И реакция на истолкование прошлого становится еще острее. Это создает зону напряжения между общественным сознанием и исторической наукой.
— А власть используют историческое мифотворчество для того, чтобы сделать себя более легитимной, чтобы «укорениться в истории»?
— И это тоже. Но я прежде всего хочу сказать, что потребность массы людей в, как теперь говорят, «положительной идентичности» — это реальность.
— Поэтому теперь мы празднуем победу над поляками?
— Это, я думаю, как раз пример неудачного административного решения. Мне, однако, кажется важным не то, что, с точки зрения исторической науки, 4 ноября 1612 года в действительности ничего особенного не происходило; важно другое: почему власть решила увековечить именно победу над поляками? Гораздо продуктивнее, на мой взгляд, было бы сделать акцент на том, что в конце октября — начале ноября 1612 года в России закончилась гражданская война. Уверен, такая памятная дата гораздо больше способствовала бы национальному единству.