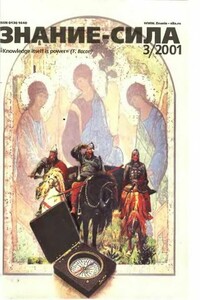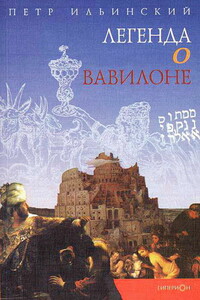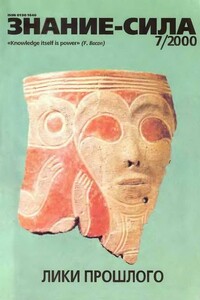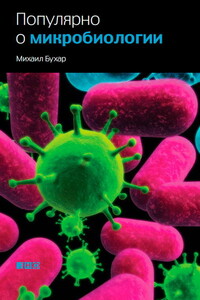Так «происходило формирование нового человека, адекватного новым условиям существования... Система идейного воспитания, сложившаяся в стране после революции и достигшая расцвета в тридцатые годы, блестяще выполнила ту историческую задачу, какая на нее и возлагалась объективно».
Даже если сделать скидку на неординарность фигуры Зиновьева, показательно, что именно читатель (а не учитель литературы) в его лице осознанно подходит к своему чтению, точно формулирует: что он читает, зачем, какими средствами, как структурирует мир благодаря прочитанному. И только потом как социолог анализирует цели тех, кто эту практику чтения создавал. Может ли сегодня читатель дать ответ, хоть отдаленно похожий по осознанности своих читательских действий?
Да, практика чтения в СССР была увечной: вопросы о том, что и как читать, публично не ставились, а решались келейно и в приказном порядке. Происходили «чистки» библиотек, «вредные» книги изымались из продажи, а «вредные» произведения классиков (Гоголя, Лескова, Бальзака и даже Горького) — из их издававшихся тогда собраний сочинений. Но и разрешенные книги нужно было читать «правильно»: с «обрезанной» рефлексией, с табу на определенное понимание. К «темным силам и морально порицаемым явлениям» нельзя было относить советскую власть. С ограничением рефлексии и табу на понимание школа и политика чтения в целом справились: читателей вроде Зиновьева, сумевших преодолеть эти барьеры, было мало. И даже в таком урезанном виде эта практика чтения продержалась недолго. После войны она потеряла свое содержание: «новые люди» уже были созданы, в том числе и практикой чтения.
Но вернемся к Зиновьеву. Он отдавал себе отчет в том, что именно участие в сложенной в СССР практике чтения привело его к желанию стать настоящим коммунистом — и к подготовке покушения на Сталина, понимая, что оно обречено на неуспех. Это было решение трагического героя. «Я готов был пойти на это без всяких колебаний. Эти минуты гибели были бы для меня величайшим триумфом жизни. Прошло почти пятьдесят лет с тех пор. Если бы было возможно такое чудо — переиграть жизнь — и мне было бы предложено выбирать — совершить покушение на Сталина или прожить ту жизнь, какую я прожил, я бы и сейчас выбрал первое. Пусть мое покушение оказалось бы неудачным. Для меня самого сознания того, что я пошел на него, было бы достаточно. Это более соответствовало бы тем масштабам моих жизненных претензий, которые Судьба вложила в меня изначально. Героем моей юности был Демон, восстающий против Бога».

Но последствия этого чтения оказались для Зиновьева куда глубже. Сам он их уже не осознавал. Если взглянуть на его социологию, довольно трагичную и безысходную, под углом зрения его рассказов о любимых героях и произведениях, видно: в корне его социологических построений — литературная модель трагического героя, где окружение и судьба безжалостны, выхода нет, но герой все же продолжает борьбу.
Как бы ни относиться к созданной в СССР практике чтения (да, она урезана, занормирована, идеологизирована), в ней было осознанное действие читателя, отдающего себе отчет в том, что он делает, когда читает, и что с ним делает читаемая книга. Да, многие аспекты и темы были закрыты для рефлексии читателя, но не лучше ли это сегодняшней ситуации, когда возможности осознания в принципе открыты, но оно не происходит? Сегодня от той практики чтения нам остались смешные фрагменты вроде школьных списков литературы, подобранных для совсем других задач, делающих акцент на героях и на том, «что они олицетворяют» — хотя неизвестно, как нам впустить это в свою жизнь. Изменились герои, изменилось представление о том, кто они такие, героизация персонажей вообще перестала быть основным способом понимания текста. Изменилось многое — ведь изменилась жизнь. А чтение осталось прежним, так и не обретя пока в новой России ни цели, ни смысла.
Соблазны и искушения
Кроме отсутствия серьезного отношения к чтению как механизму социального развития, были и многие соблазны и искушения, приведшие к одномерному и упрощенному чтению.
Чтению очень навредило распространение идей коммуникации. Начиналось все вполне позитивно. Бахтинская концепция диалога была весьма продуктивной. Но Бахтин, для которого диалогичность текста была указанием на драматичность жизни, а работы о литературе и культуре никогда не отрывались от событийности жизни благодаря их погруженности в философию Поступка, и представить не мог, что вскоре появятся довольно сходные по терминологии, но противоположные по смыслу идеи о том, что диалог происходит между самими текстами, что текст лишится жизненной опоры, превратившись в жителя «культуры» — мира культурных форм, перекликающихся друг с другом. Что начнется странная традиция чтения с вылавливанием того, к какому другому тексту этот текст нас отсылает, какой текст он неявно цитирует, — игра, безжизненность которой Гессе понял, как ни парадоксально, еще до структурализма, постструктурализма и тем более постмодернизма: «Игра в бисер» была написана в 1943 году. В этой линии чтение замкнулось в культуре и оторвалось от опыта и событий жизни.