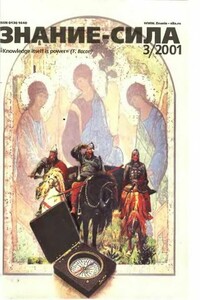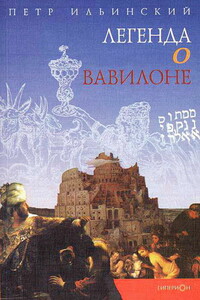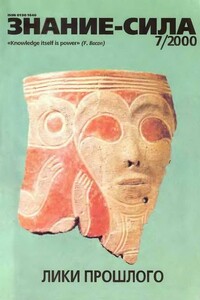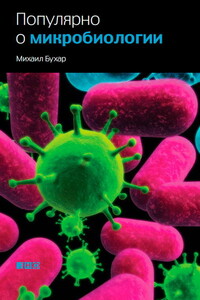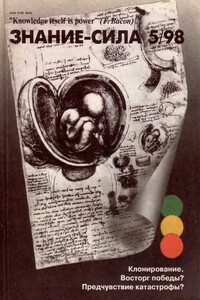В эту ночь он писал стихи. Без смущения их невозможно слушать. Некая торжественная и неумелая, но пронзительная музыка слов, взятых сразу из позапрошлого века, — очень высоких, давно забытых. Простота совершенно не подходила к случаю. К этому небу и к этому огню. И к его одиночеству. Неживым Алешу он не видел, значит он просто где-то далеко — пятьдесят километров или сто, какая разница, ну разошлись сегодня дальше обычного, только и всего.
«Самотоп»
Двадцать лет кряду, не пропустив ни одного лета.
— Сколько ж ты прошагал, Сережа?
— Много. Главное, не по асфальту — по болотным тропам, камням, в воде. Кроме как самотопом территорию не обследуешь. Только в последние годы я узнал всех орланов и узнал, что их пятнадцать пар. Каждый год отмечал, на каких лесных островах, на каких скалах побывал. Я пытался выстроить мозаику их жизни. А что значит ее увидеть? Плывешь на лодке, потом пристаешь к берегу, а еще и идти надо куда-то. И не все, конечно, складно выходит.
Помню, пробираюсь вверх по при току. Там от верховьев идет цепь озер. Их двенадцать. И, спускаясь по ним, можно выйти на Поной, то есть закольцевать путь. Первое озеро проплыл. Обнаружил ручей. Карты появились уже, слава Богу, знаешь, где искать тот ручеек. Пошел по нему в следующее озеро, потом еще в одно. И тут оказывается, что все другие-то озера подо льдом. Май месяц. Волоку байдарку по льду Ну и ушел под него... До берега несколько сотен метров. Хорошо, успел ухватиться за нос лодки, начал выкарабкиваться. А вок руг не просто лед, лонный лед тоже уже всплыл, а он весь с илом. Няша, как говорят на Севере. Выполз весь мокрый, грязный — и все на тот же подгнивший, как там говорят, лед. И с трудом до берега — сушиться, чиститься, ведь дальше надо идти.
Конечно, среди местных у меня много друзей. В тайге встретишь кого, непременно остановка: «Ты куда?» — «А гы?» Так что в поселке как бы знали, в каком направлении я уехал, вольно или невольно прослеживали, где я, как я там, только все это так — больше для собственного успокоения.
Ну и, конечно, всеми силами я старался кого-то привлечь. Приезжали новые люди, но никто не приезжал дважды. Комаров не выдерживази. Я- то как-то привык к ним. Мазаться старался редко — бессмысленно это, пот запивает. Только ночь — это что-то похожее на человеческую жизнь. И лишь два спасения. Первое — это сон в балагане. Ты спишь раздетым. А то и в жару в энцефапитке, в подштанниках. И штаны, конечно. Чтоб не прокусывали. Противно.
А второе спасение — это когда появился мотор. Мотор местные давали почти безвозмездно, свой у меня появился только что. И вот: разогнался по озеру, фарватер уже знаешь, комары отстают, в это время быстро раздеваешься — готов! — глушишь мотор, прыжок в озеро, кувыркаешься, ныряешь, но бдишь — отставшая туча комаров уже тут. Запрыгиваешь в лодку, заводишь мотор и — опять на ходу — одеваешься. Вот оно — счастье!
О том, как ему стало «скучновато»
Если у зоолога нет ничего, кроме бинокля, его могут выручить лишь дотошность и постоянство. Это было понятно сразу. Все можно было сделать, как говорит Сергей, достаточно формально. Есть территория, есть редкие виды. Исследовать эту территорию, проследить динамику численности птиц, а при длительном наблюдении можно уже уловить не только жизнь какой-то популяции, но и жизнь вида. Задача сама по себе огромная. Но его с каждым годом «захватывало еще и другое: мне начало казаться, что я вот- вот проникну сквозь поверхность своих же наблюдений».
— Всякий год, приходя к одним и тем же гнездам, я понимал, что начинаю различать: те же самые птицы прилетели или другие. Они по-разному беспокоились при моем появлении. Вначале это была почти одна интуиция. Я у гнезда. Одна пара орланов тихо улетала и больше не появлялась, другие начинали кричать, увидев меня, чуть ли не за километр-полтора, третья пара исчезала из гнезда, когда я еще плыл на лодке по озеру. Надо было быть лишь внимательным и сравнить годы — этакая малость... Но это уже была не интуиция. Птиц различала дистанция реагирования. А еще и поведение — беспокойство одного партнера или обоих, кто-то более агрессивен, другой меньше. Я стал все это улавливать и описывать. И это было единственным, куда можно было как-то двигаться в наблюдениях, ведь наше мечение не давало возможности отличить птиц друг от друга, кольца наши не видны даже в бинокль, а до меня птицы вообще были неокольцованы, они-то и были тут.
Иногда мне уже начинало казаться: в этой паре что-то произошло. Не сменился ли партнер? Самка и самец отличаются хорошо — самец меньше. А орлана, если ему не больше шести лет, можно еще узнавать по цвету хвоста. Это потом он станет чисто-белым, а до этого можно уловить в перьях темные вкрапления, и их год от года все меньше и меньше. Только смотреть надо хорошо. Вот тут я, конечно, загорелся. Я узнавал их! Не всех, но узнавал. Даже когда они парили над озером, и узнавал их. Способ мой был самый примитивный, но он давал ход к информации.
Меня сразу поразило их общение между собой. Территориальная птица, и по литературе они при кон «акте должны были вступать в бой. Но я не видел боев. На одном озере, длиной всего в восемь километров, гнездилось три пары — ближе некуда. Они все прилетали каждый год — и никаких боев. Выходит, они не каждый год распределяют территорию? Вот она — идеальная структура. И сколько ей лет? Двадцать «моих» она остается постоянной. Это точно. Но я уверен: она стабильна уже не одно столетие. Никто и никогда туг не разрушал гнезд, не было пожаров, то есть никакая трагедия не вырывала птиц из этой мозаики. Вырви — и вновь прибывшие птицы вступили бы в борьбу с аборигенами. Ведь даже если в паре гибнет партнер, то оставшийся приводит к гнезду другую птицу и она уже подчиняется тем же правилам распределении территории. Тут все закончено, все решено.