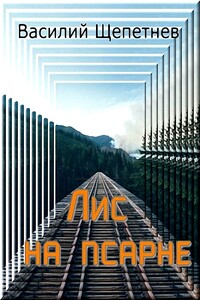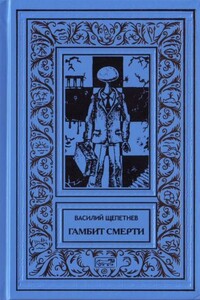Сел и стал смотреть. Это успокаивает. Первая — «Сталин и дети». Иосиф Виссарионыч расположился в плетёном кресле, рядом — пионер с планером в руках, на пионера смотрит девочка, а на втором плане — пацаненок лет пяти, коротенькие штанишки на лямках. Дедушка не раз объяснял мне, что пионер — Вася Сталин, девочка — Светлана, а пацаненок — папенька, Владлен Иванович. Очень, говорят, товарищ Сталин любил эту картину. Держал на кунцевской даче. И каждое солидное заведение покупало авторскую копию, а заведения поплоше — репродукцию. И почёт, и деньги рекой. При жизни Иосифа Виссарионыча.
Вторая картина — «К звёздам!». Никита Сергеевич Хрущев стоит на открытой летней веранде, в вышиванке, соломенная шляпа на столе, а внизу, у клумбы, пионер и девочка готовят к запуску ракету — то ли действующая модель, то ли просто макет. А пацаненок, совсем клоп, с восторгом смотрит на них.
Пионер — Сергей Никитович, девочка — Рада, а пацаненок — это я. Никита Сергеевич, говорят, держал эту картину на своей даче, многочисленные авторские копии были в приличных школах и домах пионеров, даже в Артеке, а школы попроще покупали репродукции.
Третья картина — «Отвага». Леонид Ильич Брежнев по колено в воде, с автоматом в руках, в окружении солдат высаживается на Малой Земле. Юный боец с восторгом смотрит на политрука. Юный боец — ну, понятно кто.
На эту картину дедушка возлагал большие надежды…
Зарядившись изобразительным искусством, я перешел к искусству музыкальному. К кабинетному роялю. Блютнер был по случаю куплен у одного генерала в сорок восьмом. Имя генерала дедушка мне так и не сказал. На этом рояле бабушка аккомпанировала папеньке, когда решили, что из Владлена художник не выйдет, а вот певец — очень может быть.
Сел. Размял кисти. И — самое трудное. «Кампанелла». Лист шуток не любит. Сразу ясно, кто работал, а кто погулять вышел. Я каждый день стараюсь хоть полчасика, да поиграть. Для души, не на публику. Да и какая публика? Маменька с папенькой хотели меня в лейб-концертмейстеры определить, но дедушка пресёк. Понимал, что внучку слушать, а не петь — мука. А пением мне до папеньки с маменькой — далеко. Ладно, чего пережевывать.
Листа отыграл без огрехов, но и без блеска. Бывало и лучше. А потом перешел к вольным упражнениям. Играл, что само ляжет на клавиши. Буги-вуги, Чайковский, Кумпарсита… Я даже запел.
Una furtiva lagrima
Negli occhi suoi spunto:
Quelle festose giovani
Invidiar sembro.
Che piu cercando io vo?
Che piu cercando io vo?
Странно. Давно мне не пелось.
Я встал, вышел из-за рояля. Сидя — это баловство, а не пение. А я по-настоящему, как папенька. И маменька.
И я вдарил (так дедушка обозначал мое фортиссимо). Да, могу. Но недолго.
Через три минуты устал. Да и слова кончились.
К роялю возвращаться не хотелось. Иссякла моя музыка. На сегодня.
Пошёл на кухню. К холодильнику. К борщу.
Обыкновенно мы едим в столовой. Мы — это когда с дедушкой, а прежде и с бабушкой. Вера Борисовна, домработница, приносила супницу и разливала каждому в плепорцию. Сервиз майсенского фарфора, австрийское серебро — ложки, вилки, ножи. Бабушка настаивала. Фарфор и серебро тоже куплены у генерала по случаю, только уже у другого генерала. После того, как самых видных трофейщиков посадили, генералы от лишнего избавлялись скоропалительно, вот дедушка момент и поймал.
Но это прежде. А сейчас я столуюсь на кухне, по пролетарски. Нет, когда с папенькой, то в столовой, но сейчас-то я один. И Веры Борисовны нет, после смерти дедушки она ушла на пенсию и уехала в Кострому. К дочке.
Не барин. Разогрел в маленькой кастрюльке борщ, заправил сметаной, покрошил дольку чеснока (дедушкина школа, он считал, что чеснок — здоровья залог) и только было собрался пообедать, а заодно и поужинать, как зазвонил телефон. Увы, не межгород. Я-то ждал межгорода, вдруг маменька позвонит. Или папенька. Но нет, это была Стельбова.
— Что-то ты сегодня распелся, Чижик, — сказала она. — Я и не знала, что ты умеешь так петь.
— Я и не умею, — я посмотрел в окно. Закрыто. И в гостиной закрыто. Во-первых, комары, во-вторых, тянет подмосковной (или поближе?) гарью, а в-третьих, чтобы не досаждать соседям. Стельбовы — как раз соседи, их дача рядом. Метрах в тридцати.
— Не скромничай. А почему ты в школе не пел?
— Пел, — ответил я. — До седьмого класса.
— А потом? — Стельбова пришла в нашу школу в восьмом классе, когда ее отца перевели в Черноземск. Первым секретарем обкома перевели. Но из Москвы.
— А потом голос поломался, — выдал я привычную версию.
— С мальчиками это бывает, — согласилась Стельбова. — Но, похоже, он починился, твой голос. Поступление подействовало? И да, что за ария? Откуда?
— Слышал когда-то. А ты почему дома, а не в Карловых Варах?
— Мне недели хватило. Дома лучше, — и она оборвала разговор.
Зачем звонила? И знает, что я поступил? Хотя зачисления не было, результаты сообщат послезавтра.
Я вернулся к борщу. Не успел съесть и половину кастрюли — ещё звонок.
— Вас слушают.
— Это Антон. Антон Кудряшов!
— Привет!
— Ты, говорят, поступил?
— Должен поступить. Ну, я так думаю.
— Значит, свободен, и настроение хорошее?