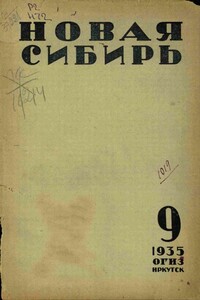Жизнь начинается сегодня - [7]
А соседи глумились над слезами, над жалобами кулачихи. Соседи были безжалостны.
— Ишь! — толковали они, присматриваясь к тому, как притихла, прибеднилась и оробела старуха. — Ишь, какая сирота казанская! Приставляется-то как! Поди Никанор не мало с собою добра унес!.. Хватит им на дожитье!
— Не без этого!.. Хозяйство у них отняли, а денег-то не нашли! Деньги с Никанором уплыли!..
Марья не верила. Ей казалось, что деревня несправедливо судит о Никаноре. Она была уверена, что никаноровских разорили дотла и что у них ничего не осталось. И уверенность эта тянула ее доброе сердце к старухе.
Но время шло, и Марья стала порою примечать, что Устинья Гавриловна в чем-то хитрит пред ней, что слезы ее очень быстро высыхают, что она слишком быстро переходит от слез, от жалоб к уверенной и даже веселой улыбке, и чем дальше, тем спокойней говорит о своем будущем. И у Марьи шевельнулось какое-то неловкое досадное чувство. И это неловкое чувство к Устинье Гавриловне окрепло и стало большим, когда старуха рассказала о проделке сына, об его отречении. В этой проделке Марья не все поняла, не все ей было ясно и доступно, но одно хорошо уразумела она: что тут какой-то нехороший обман.
И доверие к Устинье Гавриловне дрогнуло и пошатнулось у Марьи.
Забежав как-то к ней, она застала ее возле раскрытого сундучка, в котором она рылась. Устинья Гавриловна испуганно захлопнула крышку и плаксиво, но с сухими и насторожившимися глазами сказала:
— Вот, Марьюшка, в тряпье, в остатках бросовых роюсь! Совсем нас раздели, исподнего по единой паре оставили, да и то драное... Ищу, не завалялись ли где подходящие тряпки!
Но Марья успела разглядеть в сундучке кусок нового ситцу. Марья промолчала и, недолго посидев у старухи, ушла с обидой в сердце.
В другой раз она зашла к Устинье Гавриловне в то время, когда та пила чай. На столе, рядом с помятым, стареньким самоваром, стояла стеклянная сахарница, полная сахару. Устинья Гавриловна быстро сунула сахарницу за ящик и заулыбалась:
— Проходи, проходи! Чайку со мной попьешь!.. Да что я?! Какой тут чай, — малинка у меня сохранилась, малинку пью... А уж сахару нет! Скуса его, Марьюшка, не помню!.. Садись!
Марья отказалась от чаю и в сердцах подумала: «Скрывается от меня! Хитрит!»
А старуха делала вид, что только одной ей и доверяет. И однажды показала ей это доверие на деле.
В тихий весенний вечер она пробралась к ней потаенно, задами, прошла через огород и взволнованно спросила:
— Одна ты?
— Одна.
— И ребят нету?
— Паужинают ребята в столовой.
— Это хорошо!.. Я к тебе, родная, за милостью. Помоги мне, Марьюшка!
Марья взглянула на Устинью Гавриловну, видит — нет на той лица, пожелтела, испуг в глазах лежит.
— Что стряслось, Устинья Гавриловна?
— Спрячь, Марьюшка! Спрячь! — зашептала Устинья Гавриловна и сунула Марье какой-то узелок, который держала под легкой шалью. — Перетряхивать опять, сказывают, меня седни будут... Последнего решить хотят! А тут добришко кой-какое. На тебя на одну вся надежда!
Марья растерялась:
— Куда ж я спрячу?
— А туда же, Марьюшка, где ваше схоронено!! Небойсь, у Власа потайники водятся, не то, что у моего Никанора!
— У нас ничего спрятанного нету! — огорченно и обиженно ответила Марья. — Мы не прятали!..
— Ой, девонька! Ну, как хошь, а сунь куды-набудь, выручи!
Сверток остался у Марьи, возбудив в ней тревогу и недоверие.
Три человека стояли пред толпою и, охрипнув от крика, бились над простою и понятною целью: надо было разбить мужиков на бригады.
— Вот у Петрушину падь ступайте шешнадцать плугарей. Выходи шешнадцать! — кричал один. И ему в ответ:
— Петрушину опосля! Петрушина пущай обсохнет!.. Начнем с релки, от Журавлиных бугров!
— От Журавлиных самое сподручное, — гудели в толпе.
— Подчиняйтесь, скажем, распоряжению совета! — кричал другой. — Доржите, блюдите, ребята, тисциплину! Што приказано, так без гырготни и хаю! Сполняйте — и все!
Третий срывал шапку с головы и хлопал себя по коленям:
— Эх, черти! Сколько времени зря проводим!.. Ну, черти! Ну, дьяволы!
Солнце стояло высоко. Грелись в ленивой синеве белые облака. Разворачивался, яснел и улыбался полный, веселый день.
Васька выскочил из толпы, присунулся к трем и ожесточенно проорал:
— Давай мне других коней! Давай справных!.. Я что на таких лешавых скотиках копаться буду?.. Меняй мне упряжку!
— Товарищи! — замахал руками один из троих, и остальные двое повторили его жест. — Товарищи коммунары! Соблюдайте порядок!.. Катитесь, черти, шешнадцать работников у поле!
День яснел, и упругая синева гулко вбирала и себя крики.
Были первые недели жизни и трудов коммуны «Победа коммунизма». Всюду шли споры, везде бурлили, порою страстно и горячо о пустяках, о самом простом и привычном. Правление коммуны разрывалось, не поспевая наладить порядок и установить прочную, крепкую, настоящую работу.
Но это было только в самые первые недели, в самые первые дни жизни коммуны. Ибо скоро сколотилось крепкое и дружное ядро коммунаров. В правление коммуны пришли один за другим ребята и кой-кто из поседевших уже мужиков. Пришли и сказали:
— Ну, этак-то, товарищи, не пойдет у нас дело! Беспорядок!

В повести «Сладкая полынь» рассказывается о трагической судьбе молодой партизанки Ксении, которая после окончания Гражданской войны вернулась в родную деревню, но не смогла найти себе место в новой жизни...

Общая тема цикла повестей и рассказов Исаака Гольдберга «Путь, не отмеченный на карте» — разложение и гибель колчаковщины.В рассказе, давшем название циклу, речь идет о судьбе одного из осколков разбитой белой армии. Небольшой офицерский отряд уходит от наступающих красных в глубь сибирской тайги...

Одним из интереснейших прозаиков в литературе Сибири первой половины XX века был Исаак Григорьевич Годьдберг (1884 — 1939).Ис. Гольдберг родился в Иркутске, в семье кузнеца. Будущему писателю пришлось рано начать трудовую жизнь. Удалось, правда, закончить городское училище, но поступить, как мечталось, в Петербургский университет не пришлось: девятнадцатилетнего юношу арестовали за принадлежность к группе «Братство», издававшей нелегальный журнал. Ис. Гольдберг с головой окунается в политические битвы: он вступает в партию эссеров, активно участвует в революционных событиях 1905 года в Иркутске.

Исаак Григорьевич Гольдберг (1884-1939) до революции был активным членом партии эсеров и неоднократно арестовывался за революционную деятельность. Тюремные впечатления писателя легли в основу его цикла «Блатные рассказы».
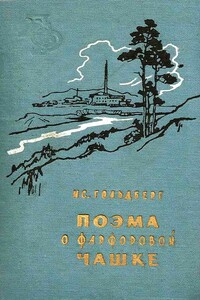
Роман «Поэма о фарфоровой чашке» рассказывает о борьбе молодых директоров фарфорового завода за основательную реконструкцию. Они не находят поддержки в центральном хозяйственном аппарате и у большинства старых рабочих фабрики. В разрешении этого вопроса столкнулись интересы не только людей разных характеров и темпераментов, но и разных классов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые — журн. «Новый мир», 1928, № 11. При жизни писателя включался в изд.: Недра, 11, и Гослитиздат. 1934–1936, 3. Печатается по тексту: Гослитиздат. 1934–1936, 3.

Василий Журавлев-Печорский пишет о Севере, о природе, о рыбаках, охотниках — людях, живущих, как принято говорить, в единстве с природой. В настоящую книгу вошли повести «Летят голубаны», «Пути-дороги, Черныш», «Здравствуй, Синегория», «Федькины угодья», «Птицы возвращаются домой». Эта книга о моральных ценностях, о северной земле, ее людях, богатствах природы. Она поможет читателям узнать Север и усвоить черты бережного, совестливого отношения к природе.
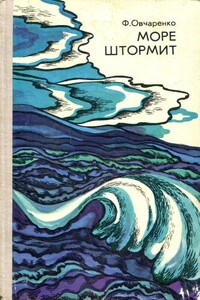
В книгу известного журналиста, комсомольского организатора, прошедшего путь редактора молодежной свердловской газеты «На смену!», заместителя главного редактора «Комсомольской правды», инструктора ЦК КПСС, главного редактора журнала «Молодая гвардия», включены документальная повесть и рассказы о духовной преемственности различных поколений нашего общества, — поколений бойцов, о высокой гражданственности нашей молодежи. Книга посвящена 60-летию ВЛКСМ.