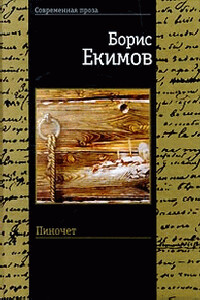«Жить хочу…» - [4]
Теперь только и останется прошлого года память. В книжном шкафу, за стеклянными створками лепились друг подле друга фотографии внуков, дочери, сына. Красивые снимки, цветные. Но от них сейчас больше тоски, чем радости.
«Наладим скайп», — вспомнил он слова дочери. И сын упрекал в телефонных разговорах:
— Почему скайп не хочешь? Говорили бы, виделись…
— Там рожи какие-то кривые, страшные, — отнекивался Петрович. — Я тебя и так, по телефону вижу.
— Как видишь? — не понимал его сын.
— Вижу — и все, — был ответ.
Он и вправду, когда разговаривал с близкими по телефону, то, глаза прикрывая, видел их лица.
Фотографий за створками шкафа было много. Но самая дорогая — в глубине, словно в укрыве от чужих глаз: портрет покойной жены.
— Вот так, голубушка моя, — сказал ей Петрович, подходя ближе. — Оставила меня сиротой. А здесь такое… Сиди как в клетке. Даже с внуками нельзя повидаться… Разве это жизнь? Это — казнь…
Он говорил и говорил, выливая душевную боль, потому что некому было больше пожаловаться. В долгой жизни, после отца и матери, не было человека ближе, родней жены. Даже по имени его называла только она. Для всех и всегда, в жизни взрослой, он был просто Петрович, потому что имя у него было необычное — Флегонт. Люди удивлялись и в обращенье корявили: Флега да Фляга, и того лучше — Фляжка. И потому с давних пор, знакомясь, он представлялся просто Петровичем. К этому привыкли.
И только жена умела называть его ласково: «Флеша…» А порой: «Флешенька…»
Даже теперь, через время, перед портретом жены всплывало порою в памяти распевное: «Фле-ешенька…» И как всегда, сразу становилось тепло на душе, а потом горячо, а потом хотелось плакать. Иногда он не сдерживался. Но сегодня вовремя увидел, что лицо жены стало печальным, в глазах — боль. Стало жалко ее.
— Ничего, голубушка моя, не расстраивайся. Как-нибудь доживу… Скайп обещают наладить. Будем по скайпу, по-современному, — успокаивал он жену. — Пойду сейчас погуляю. Погода хорошая. Помнишь, как мы с тобой на даче осеннюю пору любили. Полив кончился. В саду, в огороде все прибрано. Можно посидеть, отдохнуть. По грибы сходить. Ты же, голубушка моя, маслята жареные любила. И шиповничка набрать… Самая пора… — говорил и говорил он, доброе вспоминая.
Глаза жены потеплели. На лице — тень улыбки. Вот и слава Богу. Не надо ее тревожить. Она так долго и страшно болела. Натерпелась, голубушка…
— Погуляю, погуляю пойду, — попрощался он с женой. — А то ведь завтра запрут, как весной: пропуска, патрули, штрафы. И будем сидеть, куковать. Пойду провеюсь. Может, какие новости… — сообщил он.
Вечерело. В былую пору такое время — самое людное. Ни жары, ни надоедливой мошки. И дачный сезон — позади. Съехались в город.
Но это — былое. Нынче — лишь мамочки с колясками. А вот старых людей, знакомых — привычных гуляльщиков — не видать. Бывшие городские начальники уже своим табунком не ходят, изо дня в день вспоминая былые подвиги. И говорливый газетчик Ефим с еврейскими анекдотами еще весной пропал: говорят, прячется в квартире, даже во двор не выходит. Не видно хромого мученика с одной и той же песней: «Все болит. А я приказываю себе: иди, гад, иди! Это полезно». И давно не слышно бывшего лектора-«политика» с приемником на ремешке. У того все новости: кто и сколько украл, кого посадили и на сколько. Прячется народ. Бережется. И простодушного «чернобыльца» давно не видно, не слышно.
Теплый вечер. Самое время гулять, неспешно беседуя. Но в сквере пустынно.
Славный вечер. Аллеи молодых березок на речном откосе начали золотиться, терять листву, обнажая трогательно-нежную бель стволов. Там же, на склоне, дикие абрикосины светят алым нежарким пламенем. Розовеет вечернее небо. Смыкается тишина, в которой ни людского голоса, ни машинного гула — непривычная для городской жизни и потому тревожная. Угрюмый покой, будто вечный, кладбищенский, полоняет округу.
А может, и впрямь пришла пора уходить, не клянча каких-то жалких остатков жизни. Когда-то мать-покойница твердо сказала: «Хочу умереть нынче осенью. Мочи нет. А осенью много цветов». Сказала и ушла. Цветы на ее могилке до морозов стояли свежими.
И теперь пришла теплая осень. А позади долгая жизнь, с которой не хватает силы расстаться. Но ведь пожито, слава Богу. И было все, что положено человеку за долгий срок. А теперь, на самом краю — лишь жалкое прозябанье в четырех стенах, словно в тюрьме, в одиночестве и без обычных стариковских дел, которые прежде чередой тянулись: неспешные походы на рынки да в магазины, о хворях забота: сердце пошаливает, желудок болит, остатки зубов лечить; порой на рыбалку выбраться и даже, иногда, в санаторий съездить — так и текли день за днем незаметно. Теперь все отрезано.
Поликлиники вроде открыли. Но пошел туда и услышал: «Чего вы шляетесь? У нас везде вирус летает!» Пришлось развернуться. А в магазине чихнул ненароком, начали ругать: «Расчихался тут… Иди домой и чихай!»
А с дня завтрашнего и вовсе запрет. Даже с родными не повидаешься. По скайпу, говорят, общайтесь. Разве это жизнь? Еда, туалет, диван, тревожный сон. Снова — еда, туалет… И нудное ожидание непонятно чего. Хотя, если по-честному, одной лишь смерти.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Дед услышал по радио наивный стишок про войну и вспомнил себя мальчиком из поселка Лазурь, на окраине Сталинграда, близ Мамаева бугра… где он жил до войны и где провел все 200 дней и ночей страшной битвы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В тихом дачном поселке у Волги завелся свой скворушка — мальчонка, живущий без матери, растопил сердца всех родных и соседей.

Заботливая дочь, живущая в городе, подарила деревенской матери мобильный телефон. Но как выбрать, о чем успеть рассказать быстро и коротко? Ведь в хуторской жизни, в стариковском бытье много всего, о чем хочется поговорить…

В книгу вошли небольшие рассказы и сказки в жанре магического реализма. Мистика, тайны, странные существа и говорящие животные, а также смерть, которая не конец, а начало — все это вы найдете здесь.

Строгая школьная дисциплина, райский остров в постапокалиптическом мире, представления о жизни после смерти, поезд, способный доставить вас в любую точку мира за считанные секунды, вполне безобидный с виду отбеливатель, сборник рассказов теряющей популярность писательницы — на самом деле всё это совсем не то, чем кажется на первый взгляд…

Книга Тимура Бикбулатова «Opus marginum» содержит тексты, дефинируемые как «метафорический нарратив». «Все, что натекстовано в этой сумбурной брошюрке, писалось кусками, рывками, без помарок и обдумывания. На пресс-конференциях в правительстве и научных библиотеках, в алкогольных притонах и наркоклиниках, на художественных вернисажах и в ночных вагонах электричек. Это не сборник и не альбом, это стенограмма стенаний без шумоподавления и корректуры. Чтобы было, чтобы не забыть, не потерять…».

В жизни шестнадцатилетнего Лео Борлока не было ничего интересного, пока он не встретил в школьной столовой новенькую. Девчонка оказалась со странностями. Она называет себя Старгерл, носит причудливые наряды, играет на гавайской гитаре, смеется, когда никто не шутит, танцует без музыки и повсюду таскает в сумке ручную крысу. Лео оказался в безвыходной ситуации – эта необычная девчонка перевернет с ног на голову его ничем не примечательную жизнь и создаст кучу проблем. Конечно же, он не собирался с ней дружить.

У Иззи О`Нилл нет родителей, дорогой одежды, денег на колледж… Зато есть любимая бабушка, двое лучших друзей и непревзойденное чувство юмора. Что еще нужно для счастья? Стать сценаристом! Отправляя свою работу на конкурс молодых писателей, Иззи даже не догадывается, что в скором времени одноклассники превратят ее жизнь в плохое шоу из-за откровенных фотографий, которые сначала разлетятся по школе, а потом и по всей стране. Иззи не сдается: юмор выручает и здесь. Но с каждым днем ситуация усугубляется.

В пустыне ветер своим дыханием создает барханы и дюны из песка, которые за год продвигаются на несколько метров. Остановить их может только дождь. Там, где его влага орошает поверхность, начинает пробиваться на свет растительность, замедляя губительное продвижение песка. Человека по жизни ведет судьба, вера и Любовь, толкая его, то сильно, то бережно, в спину, в плечи, в лицо… Остановить этот извилистый путь под силу только времени… Все события в истории повторяются, и у каждой цивилизации есть свой круг жизни, у которого есть свое начало и свой конец.