Жилище в обрядах и представлениях восточных славян - [58]
Любопытно, что печь соотносилась даже с этическим аспектом поведения. Белорусы, «желая остановить нескромные речи…, замечают рассказчику: „Печь у хаце!“»[586]. Ср. украинское: «Сказав бы, та пичь в хати»[587].
Значимые элементы печи в некоторых ритуализованных ситуациях могли метонимически обозначать печь или даже весь дом (ср. выражение смотреть загнетку — т. е. осматривать хозяйство жениха в свадебном обряде). «Сидеть на загнетке» в подблюдных песнях предвещает вечное девичество, ср.:
Из целого ряда свадебных текстов видно, что заслонка в контексте свадьбы связывалась с невинностью невесты. В Тверской губ. на следующий день после свадьбы ряженые ездят с помелом и печной заслонкой, «объявляя» тем самым о происшедшем событии.
Чело — передняя стенка печи — также было отмечено в сфере религиозных представлений. У печного чела произносились заговоры (например: «Ахти мати — белая печь! Не знаешь ты себе ни скорби, ни болезни, ни щикоты, ни ломоты; так и раб божий…»)[589]. В случаях воровства денег в чело вмазывали рублевую бумажку с соответствующим заговором[590]. Иногда со следов вора снимали мерку и вешали ее в трубу, чтобы укравший так же иссох, как эта мерка[591].
Основной смысл различных суеверий, связанных с печной трубой, заключается, видимо, в том, что труба — это еще один канал связи с внешним миром, причем нерегламентированный человеком. Поэтому, например, незадолго до приезда жениха в Вятской губ. забивали отверстие печной трубы, чтобы «еретники» не могли «оборотить» гостей в волков[592].
Материалы по терминологии печи, с одной стороны, и тексты, описывающие устройство мира, с другой, дают основание предположить, что печь, как и дом (будучи основной его сущностью), входит в систему перекодировок между микро- и макрокосмом. Ср., например, такие термины для обозначения частей печи, как чело, щеки, ноги, плечи. Дальнейшая конкретизация антропоморфного образа печи, как мы уже видели, связана с приданием ей женской сути. С другой стороны, обычны тексты, в которых печь обозначает космос. Ср., например, загадки с отгадкой «Небо, звезды и месяц» типа «Полна печь перепечей, среди печей — каравай»[593]. Наконец, с домашним огнем связывался весь комплекс представлений о предках и о «Начале», что видно уже из одного факта жертвоприношения у печи (если учесть семантику всякой жертвы как исходного материала для воссоздания «начальной» ситуации). Это подтверждает и связь домового с печью[594] (ср. одно из его названий — запечник). Хозяина дома (старшего) называют «дымной шапкой», от хозяйки, по русской народной поговорке, должно пахнуть дымом[595]. На связь печи с народной космологией (а следовательно, и с «Началом») указывает характерная с этой точки зрения роспись печи, особенно у украинцев[596].
Непосредственно у печи располагается так называемый печной, или подовый, угол, который также имел названия середа, кут, бабий угол, теплушка, чулан. Эта часть избы — исключительно женская, противопоставленная по этому признаку пространству у дверей (т. е. более внешнему), так называемому подпорожью — мужской части избы, где работал, а иногда и спал (на конике) хозяин. Бабий угол отделял от остальной части избы пирожный брус. По мнению историков жилища, термин середа утратил свой истинный смысл[597].
Бабий угол (кут) и занавески вдоль пирожного бруса — постоянные характеристики внутреннего пространства русской избы в свадебной поэзии. Бабий угол в ней — место невесты. Ср.:
Выход невесты из этого угла в красный угол (светлицу) является значимым в ряду символов, используемых для описания свадьбы. Ср.:
Специфически северная особенность организации околопечного пространства связана с тем, что печь ставили на некотором расстоянии от стены (запечек), где оборудовали чулан (шомныш, голбец) и откуда нередко шел ход в подполье. На термине «голбец» и обозначаемом им круге понятий стоит остановиться прежде всего потому, что голбец непосредственно связан с подпольем и, следовательно, с вертикальным членением внутреннего пространства севернорусского дома. Семантика этого слова включает несколько значений, из которых особый интерес для нас представляют три: 1) деревянный памятник в виде домика на могиле (волог., новгор., костр., владим., нижегор., казанск., калужск., брянск., орл., ворон., донск., сарат., оренб., тобольск., томск., вост. — сиб.)[601]; 2) названная выше пристройка у печи с входом в подполье; 3) само подполье или погреб (перм., оренб. и др.)[602]. Все эти три значения представляются нам близкими, если учесть общее для всех трех основание — связь с некоторыми специфическими формами захоронения: похороны под домом, в подполье, распространенные у заволжских старообрядцев

Вниманию читателей предлагается первое в своём роде фундаментальное исследование культуры народных дуэлей. Опираясь на богатейший фактологический материал, автор рассматривает традиции поединков на ножах в странах Европы и Америки, окружавшие эти дуэли ритуалы и кодексы чести. Читатель узнает, какое отношение к дуэлям на ножах имеют танго, фламенко и музыка фаду, как финский нож — легендарная «финка» попал в Россию, а также кто и когда создал ему леденящую душу репутацию, как получил свои шрамы Аль Капоне, почему дело Джека Потрошителя вызвало такой резонанс и многое, многое другое.

Книга посвящена исследованию семейных проблем современной Японии. Большое внимание уделяется общей характеристике перемен в семейном быту японцев. Подробно анализируются практика помолвок, условия вступления в брак, а также взаимоотношения мужей и жен в японских семьях. Существенное место в книге занимают проблемы, связанные с воспитанием и образованием детей и духовным разрывом между родителями и детьми, который все более заметно ощущается в современной Японии. Рассматриваются тенденции во взаимоотношениях японцев с престарелыми родителями, с родственниками и соседями.

В монографии изучается культура как смыслополагание человека. Выделяются основные категории — самоосновы этого смыслополагания, которые позволяют увидеть своеобразный и неповторимый мир русского средневекового человека. Книга рассчитана на историков-профессионалов, студентов старших курсов гуманитарных факультетов институтов и университетов, а также на учителей средних специальных заведений и всех, кто специально интересуется культурным прошлым нашей Родины.
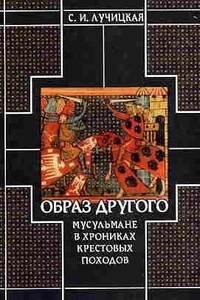
Книга посвящена исследованию исторической, литературной и иконографической традициям изображения мусульман в эпоху крестовых походов. В ней выявляются общие для этих традиций знаки инаковости и изучается эволюция представлений о мусульманах в течение XII–XIII вв. Особое внимание уделяется нарративным приемам, с помощью которых средневековые авторы создают образ Другого. Le present livre est consacré à l'analyse des traditions historique, littéraire et iconographique qui ont participé à la formation de l’image des musulmans à l’époque des croisades.
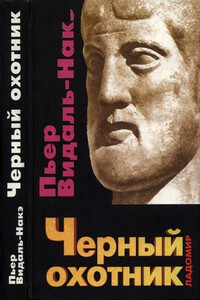
Пьер Видаль-Накэ (род. в 1930 г.) - один из самых крупных французских историков, автор свыше двадцати книг по античной и современной истории. Он стал одним из первых, кто ввел структурный анализ в изучение древнегреческой истории и наглядно показал, что категории воображаемого иногда более весомы, чем иллюзии реальности. `Объект моего исследования, - пишет он, - не миф сам по себе, как часто думают, а миф, находящийся на стыке мышления и общества и, таким образом, помогающий историку их понять и проанализировать`. В качестве центрального объекта исследований историк выбрал проблему перехода во взрослую военную службу афинских и спартанских юношей.
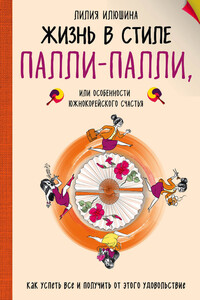
«Палли-палли» переводится с корейского как «Быстро-быстро» или «Давай-давай!», «Поторапливайся!», «Не тормози!», «Come on!». Жители Южной Кореи не только самые активные охотники за трендами, при этом они еще умеют по-настоящему наслаждаться жизнью: получая удовольствие от еды, восхищаясь красотой и… относясь ко всему с иронией. И еще Корея находится в топе стран с самой высокой продолжительностью жизни. Одним словом, у этих ребят, полных бодрости духа и поразительных традиций, есть чему поучиться. Психолог Лилия Илюшина, которая прожила в Южной Корее не один год, не только описывает особенности корейского характера, но и предлагает читателю использовать полезный опыт на практике.

Книга состоит из 100 рецензий, печатавшихся в 1999-2002 годах в постоянной рубрике «Книжная полка Кирилла Кобрина» журнала «Новый мир». Автор считает эти тексты лирическим дневником, своего рода новыми «записками у изголовья», героями которых стали не люди, а книги. Быть может, это даже «роман», но роман, организованный по формальному признаку («шкаф» равен десяти «полкам» по десять книг на каждой); роман, который можно читать с любого места.