Жернова. 1918–1953. Держава - [38]
Разумеется, всех подробностей я не помню. Зато помнила моя мама. Она-то и рассказала мне, когда я подрос, каким я был в те годы. И часто при мне рассказывала другим мамам. А другие мамы рассказывали ей про своих детей. И почти то же самое.
В нашей маленькой комнате всего два окна, одно смотрит на улицу, другое на кусты и деревья. Во второе окно смотреть не интересно. К тому же к нему не подойдешь: возле окна стоит кровать моей сестренки, которую зовут Людмилкой. Из окна, что выходит на улицу, видно несколько сосен, забор на той стороне, за забором старый дом, который все время спит или о чем-то думает — о чем-то очень невеселом, и кусочек дороги, по которой иногда ездит телега с одной лошадью и ходят люди. Я редко смотрю в окна: там все время одно и то же. А если зима, то дед Мороз так разрисовывает стекла всякими перьями и кустами, что через них ничего не видно.
В нашей комнате очень тесно: платяной шкаф, папы-мамина кровать, кровать моей еще совсем маленькой сестренки Людмилки, моя кровать, круглый раздвижной стол. Ну и, конечно, дверь, из которой можно выйти в коридор и в которую можно вернуться обратно.
Над папы-маминой кроватью висит самодельный коврик, изображающий корзину с цветами. Цветы и листья собраны из разноцветных лент, серединка цветов — пушистый комочек из шелковых ниток. Я помню этот коврик, когда на нем еще ничего не было, а сам он был натянут на раму, мама вышивала на нем корзину и листики, а потом они с папой приделывали к нему цветы. А я подавал ленточки.
Коврик этот, выцветший, висел потом над моей кроватью до тех пор, пока я не оперился и не вылетел из родительского гнезда в большой мир. Я даже помнил — из маминых рассказов, разумеется, — какие цветы собрал из ленточек мой папа, а какие мама. Цветы, собранные папой, казались мне более изящными, но я об этом не обмолвился ни словом.
Остальные детали нашей комнаты теряются во мраке. Возможно, что они не вместились в мое сознание, не входя в сферу детских интересов. А возможно, других деталей просто не было.
Однажды папа пришел домой совсем не таким, как обычно, а совсем другим: сердитым и страшным. Он что-то говорил маме чужим — не папиным — голосом, а мама сидела на стуле и плакала.
Ссора между родителями стала, быть может, моим первым потрясением, изменившим плавное течение жизни. Теперь, когда папа возвращался с работы, я со страхом ждал повторения ссоры, то есть того непонятного, что выражалось на папином окаменевшем лице и мокром лице мамы. Все вещи, присутствующие при этом, притихли, и я, забившись под стол, сидел там тихо, как мышонок, не выдавая своего присутствия. Мне казалось, что если я шевельнусь, гнев папы перекинется на меня, каменное лицо его приблизится вплотную, и короткие злые слова обрушатся на мою голову. Папа для меня стал с некоторых пор чем-то вроде горячего чайника, до которого хочется и в то же время страшно дотронуться. Лишь иногда суровый вид папы размягчался, и он вполголоса начинал заунывно жаловаться на то, что когда-то служил на какой-то почте каким-то ямщиком, был молодым и сильным и любил какую-то девчонку. Чаще всего жаловался он в сарае, печатая фотографии или вынимая из пахучей доски шуршащие гибкие стружки.
И как-то раз, уже лежа в постели, я спросил у мамы шепотом, куда подевалась та девчонка, которую любил наш папа? Наверное, я плохо объяснил маме, о какой девчонке идет речь, потому что мама вдруг прижала меня к себе и заплакала. Я тоже заплакал: мне было жалко маму, девчонку, папу и самого себя.
Мама укрыла меня одеялом, погасила свет, села рядом и тихонько запела:
Глава 21
Я рос и рос, границы моих владений все расширялись и расширялись. Почти рядом с нашим домом стояла школа. Двухэтажная, кирпичная, за высоким деревянным забором, в котором кем-то была проделана большая дырка. Не помню, чтобы в этой школе когда-нибудь учились. Впрочем, в моей памяти вообще ничего не осталось от зимы — только лето и лето. Разве что чуть-чуть осени. Это скорее всего оттого, что лето в Ленинграде случалось реже, чем все остальное. Сама школа меня не интересовала: что может быть интересного в темном и пустом доме? Ничего. Зато интересовала крапива, растущая во дворе этой школы. Дикие, безбрежные заросли. А над ними кусты бузины с красными ядовитыми ягодами — если съешь хотя бы одну, то непременно заболеешь и умрешь. Я осторожно, с замиранием сердца трогаю мягкие ягоды, иногда ягоды брызгаются соком, я нюхаю пальцы — от них пахнет чем-то нехорошим, и борюсь с искушением лизнуть этот сок: мне ужасно хочется посмотреть, как это будет, когда я умру. Если бы ягоды не пахли так плохо, я бы, наверное, не только лизнул, но даже немножечко съел этих ягод, чтобы умереть, но не совсем. Совсем умирать страшно. Мама говорит, что там, куда умирают, все время ночь и ночь и очень холодно. Но мама там никогда не была, а только видела, как умерших опускают в холодную землю. Нет, пожалуй, я еще немножечко подрасту и тогда уж попробую: может, там и не все время ночь и ночь и совсем не так холодно.

«Начальник контрразведки «Смерш» Виктор Семенович Абакумов стоял перед Сталиным, вытянувшись и прижав к бедрам широкие рабочие руки. Трудно было понять, какое впечатление произвел на Сталина его доклад о положении в Восточной Германии, где безраздельным хозяином является маршал Жуков. Но Сталин требует от Абакумова правды и только правды, и Абакумов старается соответствовать его требованию. Это тем более легко, что Абакумов к маршалу Жукову относится без всякого к нему почтения, блеск его орденов за военные заслуги не слепят глаза генералу.
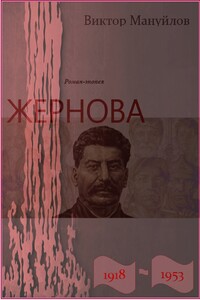
«Александр Возницын отложил в сторону кисть и устало разогнул спину. За последние годы он несколько погрузнел, когда-то густые волосы превратились в легкие белые кудельки, обрамляющие обширную лысину. Пожалуй, только руки остались прежними: широкие ладони с длинными крепкими и очень чуткими пальцами торчали из потертых рукавов вельветовой куртки и жили как бы отдельной от их хозяина жизнью, да глаза светились той же проницательностью и детским удивлением. Мастерская, завещанная ему художником Новиковым, уцелевшая в годы войны, была перепланирована и уменьшена, отдав часть площади двум комнатам для детей.

«Настенные часы пробили двенадцать раз, когда Алексей Максимович Горький закончил очередной абзац в рукописи второй части своего романа «Жизнь Клима Самгина», — теперь-то он точно знал, что это будет не просто роман, а исторический роман-эпопея…».

«Все последние дни с границы шли сообщения, одно тревожнее другого, однако командующий Белорусским особым военным округом генерал армии Дмитрий Григорьевич Павлов, следуя инструкциям Генштаба и наркомата обороны, всячески препятствовал любой инициативе командиров армий, корпусов и дивизий, расквартированных вблизи границы, принимать какие бы то ни было меры, направленные к приведению войск в боевую готовность. И хотя сердце щемило, и умом он понимал, что все это не к добру, более всего Павлов боялся, что любое его отступление от приказов сверху может быть расценено как провокация и желание сорвать процесс мирных отношений с Германией.

В Сталинграде третий месяц не прекращались ожесточенные бои. Защитники города под сильным нажимом противника медленно пятились к Волге. К началу ноября они занимали лишь узкую береговую линию, местами едва превышающую двести метров. Да и та была разорвана на несколько изолированных друг от друга островков…

«Молодой человек высокого роста, с весьма привлекательным, но изнеженным и даже несколько порочным лицом, стоял у ограды Летнего сада и жадно курил тонкую папироску. На нем лоснилась кожаная куртка военного покроя, зеленые — цвета лопуха — английские бриджи обтягивали ягодицы, высокие офицерские сапоги, начищенные до блеска, и фуражка с черным артиллерийским околышем, надвинутая на глаза, — все это говорило о рискованном желании выделиться из общей серой массы и готовности постоять за себя…».

Алексей Константинович Толстой (1817–1875) — классик русской литературы. Диапазон жанров, в которых писал А.К. Толстой, необычайно широк: от яркой сатиры («Козьма Прутков») до глубокой трагедии («Смерть Иоанна Грозного» и др.). Все произведения писателя отличает тонкий психологизм и занимательность повествования. Многие стихотворения А.К. Толстого были положены на музыку великими русскими композиторами.Третий том Собрания сочинений А.К. Толстого содержит художественную прозу и статьи.http://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Знаете ли вы, что великая Коко Шанель после войны вынуждена была 10 лет жить за границей, фактически в изгнании? Знает ли вы, что на родине ее обвиняли в «измене», «антисемитизме» и «сотрудничестве с немецкими оккупантами»? Говорят, она работала на гитлеровскую разведку как агент «Westminster» личный номер F-7124. Говорят, по заданию фюрера вела секретные переговоры с Черчиллем о сепаратном мире. Говорят, не просто дружила с Шелленбергом, а содержала после войны его семью до самой смерти лучшего разведчика III Рейха...Что во всех этих слухах правда, а что – клевета завистников и конкурентов? Неужели легендарная Коко Шанель и впрямь побывала «в постели с врагом», опустившись до «прислуживания нацистам»? Какие еще тайны скрывает ее судьба? И о чем она молчала до конца своих дней?Расследуя скандальные обвинения в адрес Великой Мадемуазель, эта книга проливает свет на самые темные, загадочные и запретные страницы ее биографии.
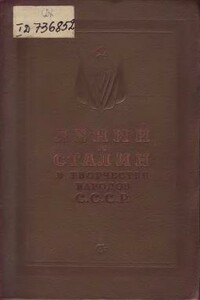
На необъятных просторах нашей социалистической родины — от тихоокеанских берегов до белорусских рубежей, от северных тундр до кавказских горных хребтов, в городах и селах, в кишлаках и аймаках, в аулах и на кочевых становищах, в красных чайханах и на базарах, на площадях и на полевых станах — всюду слагаются поэтические сказания и распеваются вдохновенные песни о Ленине и Сталине. Герои российских колхозных полей и казахских совхозных пастбищ, хлопководы жаркого Таджикистана и оленеводы холодного Саама, горные шорцы и степные калмыки, лезгины и чуваши, ямальские ненцы и тюрки, юраки и кабардинцы — все они поют о самом дорогом для себя: о советской власти и партии, о Ленине и Сталине, раскрепостивших их труд и открывших для них доступ к культурным и материальным ценностям.http://ruslit.traumlibrary.net.

Повесть о четырнадцатилетнем Василии Зуеве, который в середине XVIII века возглавил самостоятельный отряд, прошел по Оби через тундру к Ледовитому океану, изучил жизнь обитающих там народностей, описал эти места, исправил отдельные неточности географической карты.

«Кто любит меня, за мной!» – с этим кличем она первой бросалась в бой. За ней шли, ей верили, ее боготворили самые отчаянные рубаки, не боявшиеся ни бога, ни черта. О ее подвигах слагали легенды. Ее причислили к лику святых и величают Спасительницей Франции. Ее представляют героиней без страха и упрека…На страницах этого романа предстает совсем другая Жанна д’Арк – не обезличенная бесполая святая церковных Житий и не бронзовый памятник, не ведающий ужаса и сомнений, а живая, смертная, совсем юная девушка, которая отчаянно боялась крови и боли, но, преодолевая страх, повела в бой тысячи мужчин.
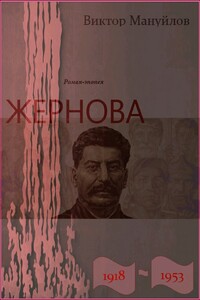
«…Тридцать седьмой год начался снегопадом. Снег шел — с небольшими перерывами — почти два месяца, завалил улицы, дома, дороги, поля и леса. Метели и бураны в иных местах останавливали поезда. На расчистку дорог бросали армию и население. За январь и февраль почти ни одного солнечного дня. На московских улицах из-за сугробов не видно прохожих, разве что шапка маячит какого-нибудь особенно рослого гражданина. Со страхом ждали ранней весны и большого половодья. Не только крестьяне. Горожане, еще не забывшие деревенских примет, задирали вверх головы и, следя за низко ползущими облаками, пытались предсказывать будущий урожай и даже возможные изменения в жизни страны…».
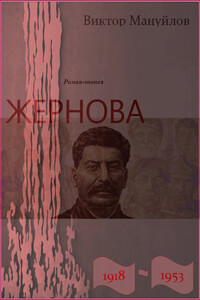
«…Яков Саулович улыбнулся своим воспоминаниям улыбкой трехлетнего ребенка и ласково посмотрел в лицо Григорию Евсеевичу. Он не мог смотреть на Зиновьева неласково, потому что этот надутый и высокомерный тип, власть которого над людьми когда-то казалась незыблемой и безграничной, умудрился эту власть растерять и впасть в полнейшее ничтожество. Его главной ошибкой, а лучше сказать — преступлением, было то, что он не распространил красный террор во времени и пространстве, ограничившись несколькими сотнями представителей некогда высшего петербургского общества.
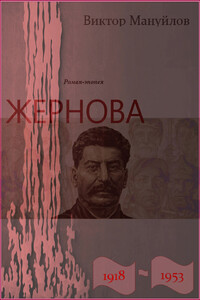
"Снаружи ударили в рельс, и если бы люди не ждали этого сигнала, они бы его и не расслышали: настолько он был тих и лишен всяких полутонов, будто, продираясь по узкому штреку, ободрал бока об острые выступы и сосульки, осип от холода вечной мерзлоты, или там, снаружи, били не в звонкое железо, а кость о кость. И все-таки звук сигнала об окончании работы достиг уха людей, люди разогнулись, выпустили из рук лопаты и кайла — не догрузив, не докопав, не вынув лопат из отвалов породы, словно руки их сразу же ослабели и потеряли способность к работе.
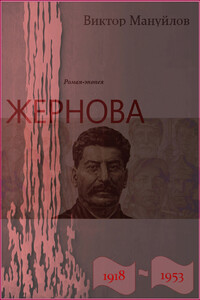
"Шестого ноября 1932 года Сталин, сразу же после традиционного торжественного заседания в Доме Союзов, посвященного пятнадцатой годовщине Октября, посмотрел лишь несколько номеров праздничного концерта и где-то посредине песни про соколов ясных, из которых «один сокол — Ленин, другой сокол — Сталин», тихонько покинул свою ложу и, не заезжая в Кремль, отправился на дачу в Зубалово…".