Земля под копытами - [16]
— Цирк, ну цирк, сто лет такого не увидишь! — хохотнул Девятка. Женский визг заглушил его хмельной голос. Жеребец вновь встал на дыбы и, ткнувшись о притолоку, передними копытами ударил по столу. На Лизу посыпались осколки посуды и объедки. «Сейчас прольется кровь, — подумал Степан, освобождаясь от хмельного угара. — Убьет Лизу. Лиза — черт с ней, таких Лиз на веку еще будет-будет, а ребенок все же — кровь моя…» Он выхватил пистолет и трижды выстрелил в голову коня. Ноги животного подломились и, переворачивая столы, он распростерся посреди комнаты. Из лошадиной морды хлестала кровь на передки Шуляковых хромовых сапог.
Степан заплакал — едко-сладкими, как сахарин, пьяными слезами.
9
Бог знает, сколько времени прошло. Но был день, потому что сквозь заколоченные доски в окна все еще струились полоски света, как строчки на школьной тетрадке, только все наоборот: там, где надо писать, темно, а линейки — белые. С прошлого вечера у Гали во рту не было и маковой росинки, но есть не хотелось, зато пить — хоть криком кричи. Галя терпела, ведь и другие терпели, чем она лучше? Тут загудело что-то, затопало по коридору, двери камеры-класса распахнулись:
— Шнель, шнель! — кричал немец, весь в черном, с серебряными нашивками на рукавах, должно, главный их, показывая рукой на коридор, выходите, мол. Второй немец считал: — Айн, цвай, драй…
Считать по-немецки Поночивна умела — дети так дразнились, запомнила. Она стояла у дверей, ее первой вынесло в коридор. Немец досчитал до двадцати и закрыл двери класса. «Ну вот, теперь расспросят, кто и за что, и отпустят, — утешала себя Галя. — Матка, скажу, драй киндер дома ждут. К вечеру и дома буду, кулешику наварю, постираю, что спешно, а то Шуляк проклятый завтра снова в поле погонит…»
Но никто ни о чем не расспрашивал. Их вывели во двор и стали загонять в крытую машину. Поночивна все старалась с краю оказаться, вдруг случится кому из старших про детей рассказать, и среди немцев есть люди, сжалятся и скажут: «Иди, матка…» Она была уже в машине, когда с крыльца сбежал молоденький офицерик, красивенький такой, как куколка, глаза голубые, а лицо — картинка.
— Паночку, пить, вассер, вассер! — запричитала она, показывая на колодец в глубине двора. Вода лишь зацепка, а там и про детей скажет. Офицер засмеялся — весело так, по-мальчишески:
— На небе напьешься, тетка…
Из здешних немцев, наверное, потому что говорил по-украински чисто, как учитель. Он стоял рядом с машиной и поигрывал пальцами, будто перчатки надевал. А пальцы у него длинные и белые, как глисты. Немцы вскочили в кузов, заслонили спинами и школьный двор, и красноармейца в петле, и небо. Дула автоматов уставились на арестованных, будто высматривали, кого первым на тот свет отправить. Хлопнули дверцы кабины, машина тронулась.
— В лагерь, должно. Тут тесно стало.
— Сказано ж, куда везут… Эх, простить себе не могу, что вот так — как курку дурную!
— Молчать, швайн! — гаркнул немец, и голоса умолкли. Только женщина в углу кузова вздыхала или всхлипывала.
Вспомнила Галя, что она так и не выбрала семян из огурцов. Оставила с лета десяток желтяков на грядке, лежали они, как поросята в ботве, а ей все некогда, так дети и расшвыряли — в войну играли. Придется весной по соседям бегать, а разве всего напросишься? Любила Поночивна, чтоб каждое семечко у нее свое было, не заемное. С лета собирала семена из огорода и цветника, в узелки связывала, а узелки от мышей за притолоку прятала. Зимой не знала слаще дела, чем развязывать каждый узелок и семена перебирать. Каждое семечко в пальцах подержит, будто голубит: «Из каждого-то росточек с теплом проклюнется…» Помидорными семенами запаслась-таки. Ходила к золовке в Пручаи, а у той помидоры — желтые, сладкие, как мед, и большие — с два кулака каждый, из степи к нам попали. Галя и сорвала один перезрелый, красавец — хоть на выставку, подумала: семян соберу. Так и сделала. Дождется березня[12] — посеет в старое корыто. О будущей весне с радостью думала, даже в машине, которая на смерть ее везла.
Осень Галя тоже любила. Хоть и хлопотно. Только про осень вспомнила — сразу динь-динь, мысли одна за другой: давно тряпку не смывала, которой огурцы в бочке прикрыты, небось закисла. Лук выбрала, на грядке оставила, чтоб просох. Вчера ливень был проливной, заливал все, а сегодня, как говорится, и покойник покается, что в такую пору отошел, — солнышко вовсю светит. Завтра можно и лук вязать. Фасоль в погребе, собранная, но не лущеная, все руки не доходят. А картошка еще на грядке, вспомнила — как в сердце кто уколол. Без нее картошка сама не выроется. И ничего-то без нее не сделается. Просо в стожке возле хаты не молочено. У других дома мать есть либо свекровь там, золовка или еще какая молодица, у нее ж никого. Как тут помрешь, ежели столько работы и все на одни руки?
Машина свернула с шоссе, промелькнули крайние хаты Листвина, и пошел разматываться клубок отглаженной вчерашним ливнем полевой дороги. Оранжевое солнце садилось в тлеющий угол горизонта — все обещало сухой и погожий день.
— Вишь, к Днепру нас везут — окопы рыть.
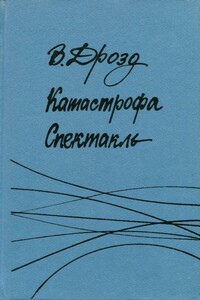
Известный украинский писатель Владимир Дрозд — автор многих прозаических книг на современную тему. В романах «Катастрофа» и «Спектакль» писатель обращается к судьбе творческого человека, предающего себя, пренебрегающего вечными нравственными ценностями ради внешнего успеха. Соединение сатирического и трагического начала, присущее мироощущению писателя, наиболее ярко проявилось в романе «Катастрофа».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
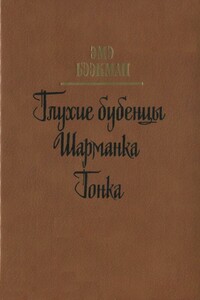
В предлагаемую читателю книгу популярной эстонской писательницы Эмэ Бээкман включены три романа: «Глухие бубенцы», события которого происходят накануне освобождения Эстонии от гитлеровской оккупации, а также две антиутопии — роман «Шарманка» о нравственной требовательности в эпоху НТР и роман «Гонка», повествующий о возможных трагических последствиях бесконтрольного научно-технического прогресса в условиях буржуазной цивилизации.

Прозу Любови Заворотчевой отличает лиризм в изображении характеров сибиряков и особенно сибирячек, людей удивительной душевной красоты, нравственно цельных, щедрых на добро, и публицистическая острота постановки наболевших проблем Тюменщины, где сегодня патриархальный уклад жизни многонационального коренного населения переворочен бурным и порой беспощадным — к природе и вековечным традициям — вторжением нефтедобытчиков. Главная удача писательницы — выхваченные из глубинки женские образы и судьбы.

На примере работы одного промышленного предприятия автор исследует такие негативные явления, как рвачество, приписки, стяжательство. В романе выставляются напоказ, высмеиваются и развенчиваются жизненные принципы и циничная философия разного рода деляг, должностных лиц, которые возвели злоупотребления в отлаженную систему личного обогащения за счет государства. В подходе к некоторым из вопросов, затронутых в романе, позиция автора представляется редакции спорной.

Сюжет книги составляет история любви двух молодых людей, но при этом ставятся серьезные нравственные проблемы. В частности, автор показывает, как в нашей жизни духовное начало в человеке главенствует над его эгоистическими, узко материальными интересами.

Маленький человечек Абрам Дроль продает мышеловки, яды для крыс и насекомых. И в жару и в холод он стоит возле перил каменной лестницы, по которой люди спешат по своим делам, и выкрикивает скрипучим, простуженным голосом одну и ту же фразу… Один из ранних рассказов Владимира Владко. Напечатан в газете "Харьковский пролетарий" в 1926 году.