Земля под копытами - [14]
— Господи, прими их души…
— Одна сволочь столько людей загубила.
— Правду-таки Тось говорил: не на курорт везут, а на смерть.
Впервые Поночивне стало по-настоящему страшно. Она припала горячим лбом к косяку двери и запричитала безголосо: «Да что ж это с вами будет, деточки вы мои, голубчики вы мои?..»
8
Шуляка мутило от съеденного и выпитого, а он все ел и пил. На столах только молока птичьего не хватало: наварено, напечено, нажарено — на целое село. А гостей за столом — на пальцах перечесть, полицаи и те не все пришли. Из Листвина хоть бы один приехал. Для парада. Так потратиться, и на кого — на шантрапу, на мелюзгу. А для кого беречь нажитое — чтоб большевики пришли и забрали все? Сегодня он позавидовал Тосю. Тось умел жить сегодняшним днем: дыши, пока дышится. А он, дурень, о завтрашнем беспокоился, у дома сколько убивался. Клуб для большевиков строил… Шуляк залпом опрокинул стакан спирту. Спирт обжег нутро, едва прочухался.
— Многие лета Степану Саввовичу! Многие лета!
— Чтоб жилось, и лилось, и родило в этом доме!
— На веки вечные!
— В чарку смотри, не за пазуху! Хи-хи…
— Пей сколько душа просит, только масличком смазывай.
— Он спрашивает, где Шуляк? А я его по харе: нет Шуляка, а есть пан староста! Это вам, говорю, не при Советах.
— Пью за будущего наследника вашего, Степан Саввович и Лисавета Макаровна! Ему тут жить и властвовать под благословенным немецким орлом. Слава!..
Шуляк со стуком поставил на стол стакан. Будто припечатал. Пьяный гул стих, гости оглянулись на старосту, но через минуту гам пьяных голосов снова повис над столом. Лиза смотрела на него через стол, как с того берега реки, грустно, но без сочувствия. Степан отвел взгляд. Лизиных глаз он не любил. Он любил Лизино тело, молодое и покорное. Никогда не требовал от нее ничего, кроме покорности. От первого дня: либо пойдешь за меня, либо поедешь в Германию. Женщина — это лишь поле для посева, а разве сеятеля занимало когда, что поле думает?
Шуляк помнил Лизу-девчонку, а когда старостой уже обходил дворы, будто впервой ее увидел: яблочко, налитое соком. Аж скулы свело от острого желания полакомиться…
— Не пейте, Степан Саввович!
Что было силы опустил кулак на край стола — упала на пол ложка, звякнула пробка в графине с наливкой.
— Молчать! Говорить буду!
— Пан староста слово держать будет! — эхом отозвался пьяный в стельку писарь, и за столом все стихло. Шуляк плеснул в стакан спирту, поднялся. Он теперь водку пил как воду, но водка его уже не брала. Раньше после нескольких чарок мир становился прозрачным, как из стекла вылитым, и в этой прозрачности размеры видимого менялись, словно в кривом зеркале. Люди мельчали, а сам он казался себе значительным и способным на все. Нынче сколько бы ни хлестал, приятного ощущения собственного могущества не возникало. Напротив, в хмельной ясности открывалось то, что трезвым прятал от самого себя.
Всю жизнь он пытался подняться над людьми. Казалось, что с приходом немцев мечта наконец осуществляется, и он безоглядно рванул вперед. А над кем он властвует? Село как не признавало его, так и не признает, каждый нож в спину норовит всадить. Над кучкой вот этих грязных подтирок, которые с радостью продадут его за грош ломаный, — вот над кем он поднялся такой дорогой ценой. Морды сальные, круглые, как горшки на тыну, — поотъедались. Ну подождите, большевички из вас сала натопят. Он был чужой всем даже тут, среди своих. Проклятущий Тось, и без него было несладко, а он еще кислятины подлил. И Галька — а что Галька? Забывай, как и звали. Котлета для червей — вот что теперь Галька. Но что-то царапало душу: целовались-миловались…
…Или это все приснилось? Как и вся его жизнь. Вся, кроме последних оккупационных лет. Они уж точно не приснились: по самые уши ты, Степан, в грязи, и никто не отмоет. Хмельными, покрасневшими глазами повел он вдоль стола — мало гостей, мало. Ну, пускай душ на пять из Листвина рассчитывал, а остальные-то все должны были прийти сельские. Мудрецы, мать вашу, только громыхнуло на востоке — головы вобрали: мы не мы. А пока красные отступали, следом за ним ходили, в рот глядели: «Пан староста!..» Лупцевал он их как коз сидоровых, а мало, оказывается.
— Вот что, паны приятели. Спасибо, что пришли окропить эти стены. Нам теперь надобно вместе держаться. И все силы — на немецкую победу. Не то жидо-большевички вернутся — нам и на кладбище местечка не отыщется, швырнут, как собак, в овраг. Слухам не верьте, все идет по плану великого фюрера: на Днепре паны немцы красных измолотят и за Урал погонят. Пью за победу великой Германии! И вы, девки-хлопцы, пейте, кто не станет пить за победу, ох и всыплю, вы меня знаете!..
Страх лег тенью на лица гостей. Слухи, что немцы снова потерпели поражение под Курском и лавина фронтов катится на запад, уже ходили в Микуличах. Рты людям не закроешь: кто-то листовку партизанскую прочел, кто-то от кого-то в Листвине на базаре прослышал. Советские войска приближаются к Днепру! Не сегодня завтра лишь лента Днепра будет разделять их от расплаты… Заставлять пить не пришлось никого — от страха, отчаяния все окунались в пьяную одурь.
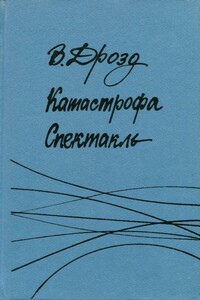
Известный украинский писатель Владимир Дрозд — автор многих прозаических книг на современную тему. В романах «Катастрофа» и «Спектакль» писатель обращается к судьбе творческого человека, предающего себя, пренебрегающего вечными нравственными ценностями ради внешнего успеха. Соединение сатирического и трагического начала, присущее мироощущению писателя, наиболее ярко проявилось в романе «Катастрофа».

Прозу Любови Заворотчевой отличает лиризм в изображении характеров сибиряков и особенно сибирячек, людей удивительной душевной красоты, нравственно цельных, щедрых на добро, и публицистическая острота постановки наболевших проблем Тюменщины, где сегодня патриархальный уклад жизни многонационального коренного населения переворочен бурным и порой беспощадным — к природе и вековечным традициям — вторжением нефтедобытчиков. Главная удача писательницы — выхваченные из глубинки женские образы и судьбы.

На примере работы одного промышленного предприятия автор исследует такие негативные явления, как рвачество, приписки, стяжательство. В романе выставляются напоказ, высмеиваются и развенчиваются жизненные принципы и циничная философия разного рода деляг, должностных лиц, которые возвели злоупотребления в отлаженную систему личного обогащения за счет государства. В подходе к некоторым из вопросов, затронутых в романе, позиция автора представляется редакции спорной.

Сюжет книги составляет история любви двух молодых людей, но при этом ставятся серьезные нравственные проблемы. В частности, автор показывает, как в нашей жизни духовное начало в человеке главенствует над его эгоистическими, узко материальными интересами.

Его арестовали, судили и за участие в военной организации большевиков приговорили к восьми годам каторжных работ в Сибири. На юге России у него осталась любимая и любящая жена. В Нерчинске другая женщина заняла ее место… Рассказ впервые был опубликован в № 3 журнала «Сибирские огни» за 1922 г.

Маленький человечек Абрам Дроль продает мышеловки, яды для крыс и насекомых. И в жару и в холод он стоит возле перил каменной лестницы, по которой люди спешат по своим делам, и выкрикивает скрипучим, простуженным голосом одну и ту же фразу… Один из ранних рассказов Владимира Владко. Напечатан в газете "Харьковский пролетарий" в 1926 году.

Прозаика Вадима Чернова хорошо знают на Ставрополье, где вышло уже несколько его книг. В новый его сборник включены две повести, в которых автор правдиво рассказал о моряках-краболовах.