Заря над степью - [197]
— В нашей стране простые скотоводы — знатные люди, — улыбнулся маршал.
Делегаты еще высаживались из автобусов, когда сияющий Ширчин подкатил к делегатской столовой на красивом "бьюике". Джамц, увидев, что Ширчин приехал на машине маршала, заулыбался во весь свой беззубый рот.
— Правду говорят: жив будешь — из золотой чаши напьешься.
А утром в воскресенье в юрту Ширчина вошел полковник Народно-революционной армии.
— А вот и он сам, — представил Ширчина полковнику дежурный.
— Узнал с первого взгляда, — забасил полковник, здороваясь с Ширчином. — Очень Тумэр похож на вас. Побывал я недавно в командировке, заглянул и к нему. У Тумэра все в порядке. А я пришел за вами, Ширчин-гуай, провожу вас в часть. Покажем вам, как живут наши цирики. Говорят, вы служили в армии еще при автономии и сражались с черномундирниками. Нашим цирикам будет полезло послушать вас.
Вскоре Ширчин с любопытством осматривал просторные и светлые казармы с центральным отоплением, щупал матрацы, простыни, одеяла, кровати, вешалки. Заглядывал в шкафы для противогазов, обошел кругом ружейные пирамиды, осмотрел некоторые винтовки, прищуренным глазом заглядывал в дула, потрогал зачем-то замок на бачке с кипяченой водой, стоявшем в помещении эскадрона.
Дежурный по кухне показал гостю книгу с записями о качестве пищи и продукты, приготовленные для закладки в котел.
— И каждый день цириков так кормят? — спросил Ширчин.
— Конечно. У нас раскладка. Каждому цирику положено определенное количество белого хлеба, масла, сахара, мяса, круп, овощей и других продуктов. Пища у нас разнообразная.
Потом Ширчин заглянул в конюшни. Осматривая светлые и теплые помещения с отдельными станками для каждой лошади и хранящимися в чехлах противогазами, он сказал:
— У вас конюшни куда лучше, чем в Хужир-Будане казармы для солдат были.
В Сухэбаторской комнате [174] политрук эскадрона скомандовал "смирно" и отдал рапорт полковнику. Полковник представил Ширчина бойцам.
— Товарпщп бойцы, поприветствуем дорогого гостя.
Когда аплодисменты стихли, полковник сказал Ширчину:
— У нас в каждом эскадроне политико-просветительная работа проводится в Сухэбаторской комнате. Как видите, политрук уж приготовил для вас трибуну. Мы просим вас рассказать о том, как жилось цирикам при феодалах.
Ширчин поднялся на трибуну. Оглядев смышленые лица молодых солдат, одетых в ладно пригнанную парадную форму, он негромко начал:
— Поглядел я сегодня, ребята, как вам тут живется, и убедился, что наша народная власть заботится о вас, как родная мать о любимых детях. Мне и во сне бы раньше не приснилось, что солдатам когда-нибудь будет так хорошо. В свое время, друзья мои, и мне довелось послужить. И я вам скажу: жизнь цирика в народном государстве так же не похожа на то, как жили солдаты в старой армии, как не похожа вся наша жизнь при народной власти на жизнь при феодалах. За родину и раньше сражались мы, не щадя жизни, а она была для нас злой мачехой. Холодным сердцем ханской родины обернулась она в те годы к простому народу. Размещались мы, солдаты, в недостроенных глинобитных казармах, оставшихся в наследство от маньчжуров. Ни окон, ни дверей, ни потолка, ни пола. С верхних жердей свисали клочья бумаги. Зимой в оконные и дверные проемы наметало целые сугробы снегу. Было так холодно, что даже вши вымерзали начисто. Жалованье нам было положено грошовое. Кормили нас заплесневелым хурутом, ослиным мясом и тощей козлятиной. У доброго хозяина от такого мяса и собака морду воротит. Бараньи ножки считались у нас лакомством. Да и то редко они нам доставались. А как? Возьмешь, бывало, увольнительную и за работу. Таскали богатеям с базара туши мяса, кололи дрова, дворы чистили. Заработаешь гроши — на них и купишь бараньи ножки. Был у нас такой офицер — Мурунга. Я вам о нем еще расскажу. Когда мы его попросили кормить нас получше, он сказал: "Вы, паршивые собаки, нужны на один день битвы, а кормить вас надо тысячу дней. Нет у нас столько еды, чтобы унять ваш аппетит".
Сахар нам удавалось попробовать только раз в году — в новогодний месяц, да и то у хозяев, которым мы делали самую грязную работу. Только после революции я узнал вкус белого хлеба. А вы, я гляжу, белый хлеб каждый день едите. Да еще с сахаром и с маслом! Хорошо вам живется. Отвоеванная вашими отцами родина лелеет вас, как любимых детей.
Раньше так говорили: нойоны не любят тех, кто говорит правду, собаки лают на того, кто едет на быке. Вы не нойоны и, думаю, не рассердитесь на седого старика, если я скажу вам правдивые слова.
Ширчин помолчал, оглядывая бойцов, выжидательно смотревших на него.
— Много есть у нашего народа мудрых и метких поговорок. Может, вы слыхали такую: голодному и рог тощего оленя кажется вкусным, а сытому и курдюк белого барана кажется горьким. Заглянул я на вашу кухню, в столовую и увидел, сколько вы белого хлеба в объедки бросаете. И говорят, это у вас всегда так.
— Так это же наша норма: хотим — едим, не хотим — давиться не будем, — возразил какой-то солдат, судя по всему, горожанин, который ни солнца, ни ветра на себе не испытал.
— Такой нормы, чтобы хлеб в помойку выбрасывать, не может быть, — нахмурился Ширчин. — Вам дают белый хлеб не для баловства, а для того, чтобы вы его ели на здоровье, а вы его бросаете в лохань. Вы разве не знаете, что хлеб мы ввозим из Советского Союза? А знаете ли вы, сколько труда стоит советскому колхознику урожай вырастить и убрать? А ваши отцы и матери? Они же ночей недосыпают, на морозе мерзнут, чтобы молодняк вырастить и скот от бурана уберечь. Этот скот идет в обмен на хлеб, а вы его бросаете! Думали ли вы, сколько труда людского стоит за каждым куском хлеба? Если бы подумали, то не бросали бы хлеб в лохань. Нет более тяжкого греха, как людским трудом швыряться. Вы не хуже меня знаете: идет война. В этой войне советские люди и нас с вами защищают. Так вот я по-стариковски и думаю: мы можем помочь советскому народу и Красной Армии не только тем, чем мы богаты, но и тем, что будем бережливы в том, что получаем из Советского Союза. Кое-кто из вас считает так: раз ему по норме положено, значит, он может съесть свой хлеб, а нет — бросать в лохань. Никто не имеет права швыряться трудом своих отцов и матерей. Нет такого права!
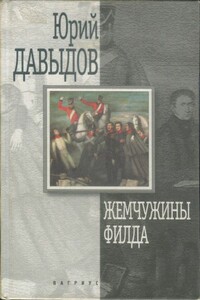
В послеблокадном Ленинграде Юрий Давыдов, тогда лейтенант, отыскал забытую могилу лицейского друга Пушкина, адмирала Федора Матюшкина. И написал о нем книжку. Так началась работа писателя в историческом жанре. В этой книге представлены его сочинения последних лет и, как всегда, документ, тщательные архивные разыскания — лишь начало, далее — литература: оригинальная трактовка поведения известного исторического лица (граф Бенкендорф в «Синих тюльпанах»); событие, увиденное в необычном ракурсе, — казнь декабристов глазами исполнителей, офицера и палача («Дорога на Голодай»); судьбы двух узников — декабриста, поэта Кюхельбекера и вождя иудеев, тоже поэта, персонажа из «Ветхого Завета» («Зоровавель»)…
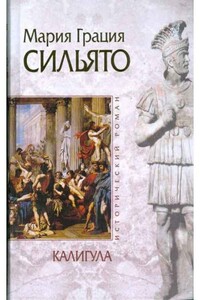
Одна из самых загадочных личностей в мировой истории — римский император Гай Цезарь Германии по прозвищу Калигула. Кто он — безумец или хитрец, тиран или жертва, самозванец или единственный законный наследник великого Августа? Мальчик, родившийся в военном лагере, рано осиротел и возмужал в неволе. Все его близкие и родные были убиты по приказу императора Тиберия. Когда же он сам стал императором, он познал интриги и коварство сенаторов, предательство и жадность преторианцев, непонимание народа. Утешением молодого императора остаются лишь любовь и мечты…
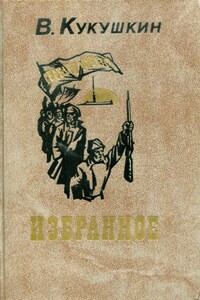
В однотомник известного ленинградского прозаика вошли повести «Питерская окраина», «Емельяновы», «Он же Григорий Иванович».

Кен Фоллетт — один из самых знаменитых писателей Великобритании, мастер детективного, остросюжетного и исторического романа. Лауреат премии Эдгара По. Его романы переведены на все ведущие языки мира и изданы в 27 странах. Содержание: Кингсбридж Мир без конца Столп огненный.
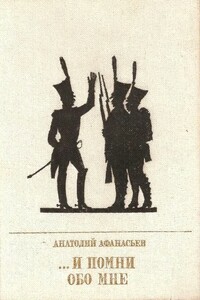
Анатолий Афанасьев известен как автор современной темы. Его перу принадлежат романы «Привет, Афиноген» и «Командировка», а также несколько сборников повестей и рассказов. Повесть о декабристе Иване Сухинове — первое обращение писателя к историческому жанру. Сухинов — фигура по-своему уникальная среди декабристов. Он выходец из солдат, ставший поручиком, принявшим активное участие в восстании Черниговского полка. Автор убедительно прослеживает эволюцию своего героя, человека, органически неспособного смириться с насилием и несправедливостью: даже на каторге он пытается поднять восстание.

Беллетризованная повесть о завоевании и освоении Западной Сибири в XVI–XVII вв. Начинается основанием города Тобольска и заканчивается деятельностью Семена Ремизова.