Западный канон - [33]
Но что за вымысел — Беатриче? Если она, как утверждал Курциус, — божественная эманация, то получается, что Данте замыслил что-то такое, чего мы не можем разгадать; можем только ощутить этот замысел. Откровение Данте вряд ли можно назвать частным, как откровение Уильяма Блейка — но не потому, что оно менее самобытно, чем у Блейка. Оно более самобытно, а достоянием публики становится только в силу своей успешности. В мировой литературе нет ничего, кроме вершин творчества Шекспира, что было бы выражено с такой ясностью. Данте, своеобразнейшая и неукротимейшая из всех утонченных натур, достиг универсальности, не впитав в себя традицию, но приспособив традицию к себе. По иронии, превосходящей все в своем роде из того, что я знаю, «узурпаторская» сила Данте имела следствием то, что его искажают по-разному, но одинаково слабо. Если «Комедия» — это правдивое пророчество, то исследователи подвергаются искушению читать ее в свете Августиновой традиции. Где еще найдешь подобающее истолкование христианского откровения? Даже такой изощренный толкователь, как Джон Фреччеро, временами берется за обращение поэтики[107], словно один лишь Августин и может предложить нам программу самосовершенствования. Коли так, то «роман о себе» вроде «Комедии» обязательно должен восходить к «Исповеди» Августина. Будучи гораздо сильнее романтиков, преклонявшихся перед ним и ему подражавших, Данте восходит к себе самому и совершенствует себя посредством своего «обратительного» образа, Беатриче, которая совсем не кажется мне сошедшей со страниц Августина. Может ли Беатриче быть предметом вожделения, пусть и облагороженного, в августинианском повествовании об обращении? Фреччеро изящно говорит, что для Августина история — это поэма Бога. Является ли история Беатриче Божьим стихотворением? Лично я склонен слышать голос Бога в сочинениях Шекспира, Эмерсона, Фрейда, — в зависимости от того, что мне нужно, — поэтому мне нетрудно признать «Комедию» Данте божественной. Но говорить о божественной «Исповеди» я бы не стал, и в словах Августина я голоса Бога не слышу. Я также не убежден, что Данте хотя бы раз в жизни слышал Бога в чьем-либо голосе, кроме своего собственного. Если автор ставит свою поэму выше Библии, то можно смело сказать, что он ставит ее и выше сочинения Августина.
Беатриче — это Дантово познание; так полагал Чарльз Уильямс, не питавший симпатий к гностицизму. Под знанием он понимал путь Данте-познающего к Богу-познаваемому.
Но Данте не намеревался делать Беатриче только своим познанием. В его поэме утверждается не то, что каждый должен найти свое обособленное знание, но то, что Беатриче должна сыграть общечеловеческую роль — для всех, кто сможет ее найти, так как ее вмешательство в судьбу Данте через Вергилия есть, предположительно, явление неповторимое. Миф о Беатриче, пусть это и главное творение Данте, существует лишь в пределах его творчества. Мы не видим всей его странности, потому что не знаем образа, сопоставимого с Беатриче. Мильтонова Урания, его небесная муза из «Потерянного рая», — не человек, и он «ограничивает» ее, предупреждая, что суть ее зовет, не имя[108]. Шелли, подражая Данте, воспел в «Эпипсихидионе» Эмилию Вивиани, но высокая романтическая страсть прошла, и со временем синьора Вивиани превратилась в глазах разочарованного влюбленного в бурого бесенка[109].
Для того чтобы хотя бы отчасти «восстановить» странность Данте, нужно обратиться к его трактовке универсального образа. В западной литературе нет персонажа неуемнее, чем Одиссей, герой Гомера, более известный под своим латинским именем Улисс. После Гомера и до Никоса Казандзакиса образ Одиссея/Улисса необыкновенно видоизменялся у Пиндара, Софокла, Еврипида, Горация, Вергилия, Овидия, Сенеки, Данте, Чепмена, Кальдерона, Шекспира, Гёте, Теннисона, Джойса, Паунда, Уоллеса Стивенса и многих других. У. Б. Стэнфорд в хорошем исследовании «Тема Улисса» (1963) противопоставляет сдержанную, но отрицательную трактовку этого образа у Вергилия положительной солидаризации с Улиссом у Овидия; в эту оппозицию сведены два главных подхода, которые, наверное, будут вечно соперничать друг с другом в метаморфозах этого героя, или героя-злодея. Вергилиев Улисс перейдет к Данте, но будет преображен так, что довольно неясное описание у Вергилия померкнет. Не желая порицать Улисса напрямую, Вергилий перекладывает эту задачу на своих персонажей, у которых герой «Одиссеи» ассоциируется с коварством и хитростью. Овидий, изгнанник и любодей, соединяется с Улиссом в составную личность и оставляет нам устоявшееся ныне представление об Улиссе как о первом великом странствующем женолюбе.
В двадцать шестой песни «Ада» Данте создал самого оригинального Улисса из всех, что мы знаем: тот не хочет вернуться на Итаку к жене, но покидает Цирцею, чтобы вырваться за все рубежи и рискнуть встретиться с неведомым. Гамлетов безвестный край, откуда нет возврата земным скитальцам, делается пунктом назначения этого самого впечатляющего из одержимых роком героев. В двадцать шестой песни «Ада» есть необыкновенный пассаж, с трудом поддающийся усвоению. Улисс и Данте соотносятся диалектически, потому что Данте боялся глубинного тождества себя как поэта (не пилигрима) и Улисса как путешественника, нарушающего границы. Возможно, этот страх был не вполне осознан, но Данте должен был на каком-то уровне его чувствовать — ведь Улисс в его изображении движим гордыней, а Данте не превзошел гордыней ни один поэт: ни — даже — Пиндар, ни Мильтон, ни Виктор Гюго, ни Стефан Георге, ни Йейтс. Исследователи хотят слышать Данте в речах Беатриче и всякого рода святых, но у них с ним разный выговор. Голоса Улисса и Данте опасно схожи — быть может, поэтому не слишком убедительно звучат слова Вергилия о том, что грек может побрезговать отозваться на голос итальянского поэта

Книга рассказывает о крупнейших крестьянских восстаниях второй половины XIV в. в Китае, которые привели к изгнанию чужеземных завоевателей и утверждению на престоле китайской династии Мин. Автор характеризует политическую обстановку в Китае в 50–60-х годах XIV в., выясняет причины восстаний, анализирует их движущие силы и описывает их ход, убедительно показывает феодальное перерождение руководящей группировки Чжу Юань-чжана.

Александр Андреевич Расплетин (1908–1967) — выдающийся ученый в области радиотехники и электротехники, генеральный конструктор радиоэлектронных систем зенитного управляемого ракетного оружия, академик, Герой Социалистического Труда. Главное дело его жизни — создание непроницаемой системы защиты Москвы от средств воздушного нападения — носителей атомного оружия. Его последующие разработки позволили создать эффективную систему противовоздушной обороны страны и обеспечить ее национальную безопасность. О его таланте и глубоких знаниях, крупномасштабном мышлении и внимании к мельчайшим деталям, исключительной целеустремленности и полной самоотдаче, умении руководить и принимать решения, сплачивать большие коллективы для реализации важнейших научных задач рассказывают авторы, основываясь на редких архивных материалах.
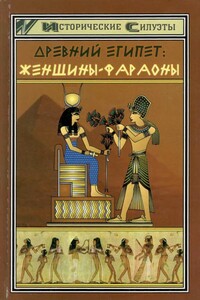
Что же означает понятие женщина-фараон? Каким образом стал возможен подобный феномен? В результате каких событий женщина могла занять египетский престол в качестве владыки верхнего и Нижнего Египта, а значит, обладать безграничной властью? Нужно ли рассматривать подобное явление как нечто совершенно эксклюзивное и воспринимать его как каприз, случайность хода истории или это проявление законного права женщин, реализованное лишь немногими из них? В книге затронут не только кульминационный момент прихода женщины к власти, но и то, благодаря чему стало возможным подобное изменение в ее судьбе, как долго этим женщинам удавалось удержаться на престоле, что думали об этом сами египтяне, и не являлось ли наличие женщины-фараона противоречием давним законам и традициям.

От издателя Очевидным достоинством этой книги является высокая степень достоверности анализа ряда важнейших событий двух войн - Первой мировой и Великой Отечественной, основанного на данных историко-архивных документов. На примере 227-го пехотного Епифанского полка (1914-1917 гг.) приводятся подлинные документы о порядке прохождения службы в царской армии, дисциплинарной практике, оформлении очередных званий, наград, ранений и пр. Учитывая, что история Великой Отечественной войны, к сожаления, до сих пор в значительной степени малодостоверна, автор, отбросив идеологические подгонки, искажения и мифы партаппарата советского периода, сумел объективно, на основе архивных документов, проанализировать такие заметные события Великой Отечественной войны, как: Нарофоминский прорыв немцев, гибель командарма-33 М.Г.Ефремова, Ржевско-Вяземские операции (в том числе "Марс"), Курская битва и Прохоровское сражение, ошибки при штурме Зееловских высот и проведении всей Берлинской операции, причины неоправданно огромных безвозвратных потерь армии.

“Последнему поколению иностранных журналистов в СССР повезло больше предшественников, — пишет Дэвид Ремник в книге “Могила Ленина” (1993 г.). — Мы стали свидетелями триумфальных событий в веке, полном трагедий. Более того, мы могли описывать эти события, говорить с их участниками, знаменитыми и рядовыми, почти не боясь ненароком испортить кому-то жизнь”. Так Ремник вспоминает о времени, проведенном в Советском Союзе и России в 1988–1991 гг. в качестве московского корреспондента The Washington Post. В книге, посвященной краху огромной империи и насыщенной разнообразными документальными свидетельствами, он прежде всего всматривается в людей и создает живые портреты участников переломных событий — консерваторов, защитников режима и борцов с ним, диссидентов, либералов, демократических активистов.

Представление об «особом пути» может быть отнесено к одному из «вечных» и одновременно чисто «русских» сценариев национальной идентификации. В этом сборнике мы хотели бы развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и интеллектуальную траекторию идиомы Sonderweg. Впервые публикуемые на русском языке тексты ведущих немецких и английских историков, изучавших историю довоенной Германии в перспективе нацистской катастрофы, открывают новые возможности продуктивного использования метафоры «особого пути» — в качестве основы для современной историографической методологии.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.

Книга посвящена литературным и, как правило, остро полемичным опытам императрицы Екатерины II, отражавшим и воплощавшим проводимую ею политику. Царица правила с помощью не только указов, но и литературного пера, превращая литературу в политику и одновременно перенося модную европейскую парадигму «писатель на троне» на русскую почву. Желая стать легитимным членом европейской «république des letteres», Екатерина тщательно готовила интеллектуальные круги Европы к восприятию своих текстов, привлекая к их обсуждению Вольтера, Дидро, Гримма, приглашая на театральные представления своих пьес дипломатов и особо важных иностранных гостей.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.

