Западный канон - [34]
Когда я покинул Цирцею, которая больше года удерживала меня вблизи Гаэты, еще не названной так Энеем, ни нежность к сыну, ни обязательства перед престарелым отцом, ни перед Пенелопой долг любви, которая обрадовала бы ее, не смогли смирить во мне страсти изведать мир, человеческие пороки и достоинства; и я пустился в открытое море с одним лишь кораблем и теми немногими спутниками, что не оставили меня. И один берег, и другой видел я — Испании, Марокко, и Сардинии, и других островов, что омывает море. Я и мои спутники были уже стары и медлительны, когда вошли в узкий пролив, где Геркулес поставил свои столпы, чтобы никто не плыл дальше. По правую руку осталась Севилья, по левую оставалась Сеута. «О братья, — сказал я, — пришедшие, невзирая на сотню тысяч опасностей, на запад, не откажите своим чувствам, которым так недолго осталось бодрствовать, в изведании, вслед за Солнцем, безлюдного мира. Задумайтесь, от кого вы произошли. Вы родились не для того, чтобы жить, как животные, но для добродетели и знания». Мои спутники стали так рваться в путь после этого краткого слова, что я едва мог их удержать, и, повернувшись кормой к утру, мы превратили весла в крылья для безумного полета, все время клонясь влево. Затем ночь увидела все звезды другого полюса, а наш был так низко, что не поднимался со дна морского. Пять раз свет загорался и столько же раз гаснул под луной с тех пор, как мы миновали тот длинный проход, когда нам увиделась гора, плохо различимая издалека, и мне показалось, что горы выше я никогда не видел. Нас наполнила радость, но вскоре она обернулась слезами, ибо от новой страны налетел шквал и ударил в нос корабля. Он три раза повернул его в водовороте, на четвертый — поднял корму кверху, а нос бросил вниз, как повелел Некто, и море вновь сомкнулось над нами.
Даже в виде английской прозы, а не сверхъестественно сильных итальянских терцин, — разве может этот необыкновенный монолог вызвать у обыкновенного читателя мысль, хотя бы отчасти сходную с той, что выразил одареннейший из специалистов по Данте? «Дантово крещение в смерть и следующее за ним воскресение отличает от Улиссовой окончательной смерти от воды явление Христа в истории или благодать, явление Христа в отдельной душе».
Понятно, что эту мысль с тем же успехом способен вызвать и бесконечно более слабый пассаж. Есть несоразмерность между доктриной — или набожностью, не признающими никаких разногласий, только приятие, — и поэтическим текстом, практически не имеющим соперников. Читать Данте, во всем полагаясь на христианскую доктрину, попросту неправильно — пусть даже доля ответственности за этот редукционизм и лежит на самом Данте. Согласно плану Дантова Ада, мы находимся в восьмом рве восьмого круга, не так далеко от Сатаны. Улисс — лукавый советчик, во многом благодаря той роли, которую его ловкость и хитрость сыграли в падении Трои, прародительницы Рима и, следовательно, Италии, о чем рассказано у Вергилия. Данте не обращается к Улиссу потому, что в определенном смысле он и есть Улисс; чтобы написать «Комедию», надо было отправиться туда, где по ту пору не бывал никто[112]. И Данте совершенно ясно дает нам понять, о чем его Улисс не расскажет: о смерти Ахиллеса, о троянском коне, о похищении Палладия — обо всем том, что навлекло на странника проклятие[113].
Его последнее путешествие, несмотря на свой итог, к этому не относится. Загоревшись сам, Данте склоняется к огню, в котором горит Улисс, вожделея знания, томясь по нему. Знание, которое он получает, — это знание о чистом поиске, в жертву которому принесены сын, жена и отец. Этот поиск, среди прочего, — метафора изгнания Данте, продленного его гордостью и непреклонностью: он отказывался принять условия, на которых мог бы вернуться к своей семье. Есть горестный устам чужой ломоть, на чужбине сходить по ступеням[114] — это одна цена, которую платишь за поиск. Улисс готов заплатить более высокую цену. Чей опыт по-настоящему ближе к опыту Данте — триумфальное обращение Августина или последнее путешествие Улисса? Легенда гласит, что прохожие показывали на Данте пальцем как на человека, каким-то образом вернувшегося из путешествия в Ад, словно он был некий шаман. Мы можем допустить, что он верил в свои видения; для поэта такой силы, считавшего себя истинным пророком, схождение в Ад не могло быть простой метафорой. Его Улисс говорит с абсолютным достоинством и страшной пронзительностью: тут не пафос проклятого, но гордость и памятованье о том, что гордость и храбрость ему не помогли.
Эней Вергилия — отчасти зануда, и таковым же делают Данте многие дантоведы — вернее, делали бы, если бы могли. Но он — не Эней; он так же необуздан, эгоцентричен и беспокоен, как его Улисс, и, как его Улисс, он горит желанием «быть не здесь», отличаться. Наверное, дистанция между ним и его двойником оказывается максимальной, когда он заставляет Улисса произнести эти волнующие слова о «чувствах, которым так недолго осталось бодрствовать». Надо помнить, что Данте умер в пятьдесят шесть лет, а хотел прожить на четверть века больше: в своем «Пире» он обозначил идеальный возраст — восемьдесят один год. Лишь к этому сроку он осуществился бы полностью и лишь тогда, возможно, сбылось бы его пророчество. Притом что Улисс отправляется в «безлюдный мир», а космические странствования Данте происходят в краях, населенных одними мертвецами, эти два искателя отличаются друг от друга, и Улисс, безусловно, отчаяннее. Созданный Данте искатель — по меньшей мере героический злодей наподобие Мелвиллова Ахава, другого богоподобного безбожника
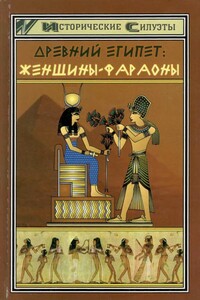
Что же означает понятие женщина-фараон? Каким образом стал возможен подобный феномен? В результате каких событий женщина могла занять египетский престол в качестве владыки верхнего и Нижнего Египта, а значит, обладать безграничной властью? Нужно ли рассматривать подобное явление как нечто совершенно эксклюзивное и воспринимать его как каприз, случайность хода истории или это проявление законного права женщин, реализованное лишь немногими из них? В книге затронут не только кульминационный момент прихода женщины к власти, но и то, благодаря чему стало возможным подобное изменение в ее судьбе, как долго этим женщинам удавалось удержаться на престоле, что думали об этом сами египтяне, и не являлось ли наличие женщины-фараона противоречием давним законам и традициям.

От издателя Очевидным достоинством этой книги является высокая степень достоверности анализа ряда важнейших событий двух войн - Первой мировой и Великой Отечественной, основанного на данных историко-архивных документов. На примере 227-го пехотного Епифанского полка (1914-1917 гг.) приводятся подлинные документы о порядке прохождения службы в царской армии, дисциплинарной практике, оформлении очередных званий, наград, ранений и пр. Учитывая, что история Великой Отечественной войны, к сожаления, до сих пор в значительной степени малодостоверна, автор, отбросив идеологические подгонки, искажения и мифы партаппарата советского периода, сумел объективно, на основе архивных документов, проанализировать такие заметные события Великой Отечественной войны, как: Нарофоминский прорыв немцев, гибель командарма-33 М.Г.Ефремова, Ржевско-Вяземские операции (в том числе "Марс"), Курская битва и Прохоровское сражение, ошибки при штурме Зееловских высот и проведении всей Берлинской операции, причины неоправданно огромных безвозвратных потерь армии.

“Последнему поколению иностранных журналистов в СССР повезло больше предшественников, — пишет Дэвид Ремник в книге “Могила Ленина” (1993 г.). — Мы стали свидетелями триумфальных событий в веке, полном трагедий. Более того, мы могли описывать эти события, говорить с их участниками, знаменитыми и рядовыми, почти не боясь ненароком испортить кому-то жизнь”. Так Ремник вспоминает о времени, проведенном в Советском Союзе и России в 1988–1991 гг. в качестве московского корреспондента The Washington Post. В книге, посвященной краху огромной империи и насыщенной разнообразными документальными свидетельствами, он прежде всего всматривается в людей и создает живые портреты участников переломных событий — консерваторов, защитников режима и борцов с ним, диссидентов, либералов, демократических активистов.
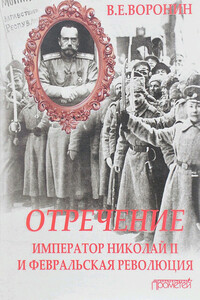
Книга посвящена деятельности императора Николая II в канун и в ходе событий Февральской революции 1917 г. На конкретных примерах дан анализ состояния политической системы Российской империи и русской армии перед Февралем, показан процесс созревания предпосылок переворота, прослеживается реакция царя на захват власти оппозиционными и революционными силами, подробно рассмотрены обстоятельства отречения Николая II от престола и крушения монархической государственности в России.Книга предназначена для специалистов и всех интересующихся политической историей России.

В книгу выдающегося русского ученого с мировым именем, врача, общественного деятеля, публициста, писателя, участника русско-японской, Великой (Первой мировой) войн, члена Особой комиссии при Главнокомандующем Вооруженными силами Юга России по расследованию злодеяний большевиков Н. В. Краинского (1869-1951) вошли его воспоминания, основанные на дневниковых записях. Лишь однажды изданная в Белграде (без указания года), книга уже давно стала библиографической редкостью.Это одно из самых правдивых и объективных описаний трагического отрывка истории России (1917-1920).Кроме того, в «Приложение» вошли статьи, которые имеют и остросовременное звучание.

Представление об «особом пути» может быть отнесено к одному из «вечных» и одновременно чисто «русских» сценариев национальной идентификации. В этом сборнике мы хотели бы развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и интеллектуальную траекторию идиомы Sonderweg. Впервые публикуемые на русском языке тексты ведущих немецких и английских историков, изучавших историю довоенной Германии в перспективе нацистской катастрофы, открывают новые возможности продуктивного использования метафоры «особого пути» — в качестве основы для современной историографической методологии.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.

Книга посвящена литературным и, как правило, остро полемичным опытам императрицы Екатерины II, отражавшим и воплощавшим проводимую ею политику. Царица правила с помощью не только указов, но и литературного пера, превращая литературу в политику и одновременно перенося модную европейскую парадигму «писатель на троне» на русскую почву. Желая стать легитимным членом европейской «république des letteres», Екатерина тщательно готовила интеллектуальные круги Европы к восприятию своих текстов, привлекая к их обсуждению Вольтера, Дидро, Гримма, приглашая на театральные представления своих пьес дипломатов и особо важных иностранных гостей.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.

