Замечательные чудаки и оригиналы - [3]
Парадокс заключается в том, что этот текст и принадлежит перу самого М. И. Пыляева, тогда как представленный в более ранних книгах несет на себе отпечаток долгой и любовной литературной обработки одного из тончайших стилистов второй половины XIX века. Открытие это принадлежит в полной мере Ю. Н. Александрову, привлекшему для своей работы о М. И. Пыляеве письма к последнему Н. С. Лескова, в 1909 г. опубликованные в одном из «Щукинских сборников»[4]. В этих письмах Лесков прямо упрекает Пыляева за крайнюю небрежность в изложении фактов, отсутствие композиции, повторы, наконец, за прямое нарушение грамматики и синтаксиса, когда «есть места по недосмотру совсем непонятные: является сказуемое, а подлежащее, вероятно, только подумано, а не написано»[5]. Правда, судя по датам (1888 г.), объему текста, о котором идет речь (38 листов), и сюжетам (напр. о юродивом Корейше) эти замечания относились к тексту не «Замечательных чудаков и оригиналов», как то предположил Ю. Александров, а, вероятнее всего, «Старой Москвы», именно тогда предполагавшейся к изданию (книга разрешена цензурой 31. 10. 1890 г., вышла в свет в 1891 г.), но тут важно другое.
Из этих писем можно понять, что, принимая самое деятельное участие в подготовке рукописи вплоть до приглашения стенографисток для работы с автором, Лесков исправлял не только композицию и структуру книги, но и самый пыляевский текст подвергал беспощадной стилистической редактуре. Отсюда, как можно думать, и проистекает известное совершенство языка, столь отчетливо выступающее в первых книгах М. И. Пыляева, но почти полностью отсутствующее в «Замечательных чудаках и оригиналах». И это легко объяснить: к тому времени, когда рукопись последней книги была собрана, Н. С. Лесков уже умер, а сам автор был не в состоянии выполнить ту литературную работу, которую по дружеской приязни брал на себя покойный писатель.
Вот почему, приступая к подготовке настоящего издания, публикаторы, первоначально полагавшие возможным ограничить свою задачу расшифровкой только некоторых упоминаемых автором персонажей, снабдив их краткими сведениями биографического характера и портретами, вскоре пришли к необходимости отойти от точного воспроизведения текста суворинского издания 1898 г., и, не останавливаясь на исправлении одних только типографских погрешностей, провести необходимую синтаксическую редактуру текста там, где без этого нельзя было обойтись, если первоначальный текст нес в себе возможность двойственного толкования или прямо затемнял смысл.
Обычно подобное текстологическое редактирование опирается на корректуры предшествующего издания, авторский оригинал или хотя бы на черновые материалы, которыми пользовался автор. В данном случае ни то, ни другое, ни третье использовать было нельзя потому, что до сих остаётся неизвестна судьба библиотеки и творческого архива М. И. Пыляева[6]. Единственные документы, связанные со смертью М. И. Пыляева и ныне хранящиеся в РГАЛИ, не помогают решить загадку, поскольку датированы 1903-1907 гг. и касаются наследования его авторских прав, перешедших сначала к сестре писателя, вдове коллежского советника Елене Ивановне Пацевич, рожд. Пыляевой, затем к её опекуну, штабс-капитану Анатолию Федоровичу Адойе, а после его смерти - к его вдове, Надежде Федоровне Адойе, которая собиралась их продать[7].
Возможно, специально предпринятые поиски Пыляевского архива в государственных хранилищах когда-нибудь и увенчаются успехом, но сейчас мне о нем ничего не известно.
Таким образом, в основу настоящего издания положен текст книги М. И. Пыляева 1898 г., переданный в соответствии с современной орфографией и пунктуацией. В квадратных [] скобках дается наиболее вероятная расшифровка сокращенного автором имени, а в постраничных примечаниях - полное имя и годы жизни данного персонажа с указанием его титула, звания или чина, а также, если этого требует контекст, сведения о его (или её) супруге. В подзаголовок каждой главы выведено её содержание, как то было принято в остальных книгах Пыляева и частично прослеживается в настоящей книге (главы 1, 20-23, 25-26 первого издания). Кроме того, книга снабжена общим указателем имен, упоминаемых в тексте и в примечаниях, а также указателем источника, откуда был взят иконографический материал для иллюстраций, приготовленный И. Е. Домбровским.
К сожалению, часть скрытых имен так и осталась не расшифрованной, в первую очередь по причине малой известности их владельцев, не вошедших в словари и энциклопедии, а потому требующих в каждом случае специальных разысканий. И все же сделанные в этом направлении шаги позволяют надеяться, что новое издание книги М. И. Пыляева будет способствовать возбуждению интереса читателей к нашему прошлому и позволит лицам, занимающимся изысканиями в области российской истории XVIII-XIX вв., продолжить работу по дальнейшему раскрытию и уточнению имен пыляевских персонажей.
Андрей Никитин
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЧУДАКИ И ОРИГИНАЛЫ
ГЛАВА I
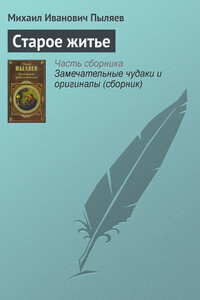
«В XVII столетии еда наших предков была крайне неприхотливая: обыкновенною пищею простого народа был ржаной и ячменный хлеб с чесноком, или ячменная кашица. Щи составляли уже роскошное кушанье и даже больше того, если в них было ржаное свиное сало. В военное время в войсках пища была – сухари и толокно. По свидетельству иностранных посланников, поваренное искусство русских состояло из множества блюд, но нечистота и еще более чесночный и луковый запах делали их почти несъедобными, притом почти все кушанья приправлены были конопляным маслом или испорченным коровьим…».
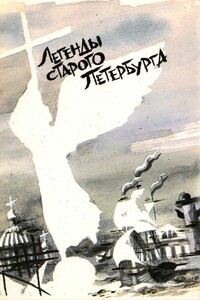
Санкт-Петербург город-легенда, город, где теряется ощущение времени, город, в котором одновременно с нами, но как бы в другом измерении продолжают жить тени наших предков. Слышны пушечные залпы — эго бьются русские и шведские полки. Стучат топоры строится на болотах великий город. Проходят вереницей царствующие Романовы. Звучит торжественная музыка, расцвечено фейерверками небо — пышно празднует победу над турками светлейший князь Потемкин-Таврический.Мы предлагаем вам, читатели, прикоснуться к петербургской истории.
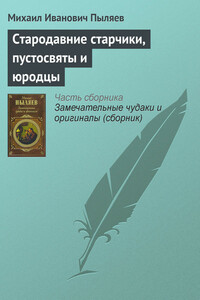
«В самом начале появления юродивых уже являлись люди, которые для своих корыстных целей пользовались легковерием народа. Иоанн Грозный во втором послании к собору жалуется, что «лживые пророки, мужики и женки, и девки, и старые бабы бегают из села в село, нагие и босые, с распущенными волосами, трясутся и бьются, и кричат, св. Анастасия и св. Пятница велят им» и проч. …».
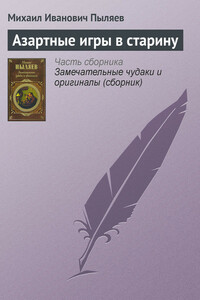
«Происхождение игральных карт теряется в глубокой древности – колыбель игральных карт историки относят к арабам. Существует предание, что карточная игра привезена из страны сарацинов, где именовалась наиб, другие утверждают, что карты явились к нам прямо из Индостана и занесены будто бы кочующими цыганами…».
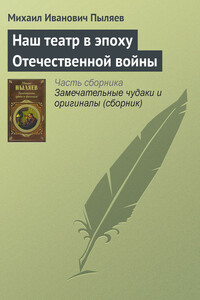
«В знаменательный год Отечественной войны деятельность русского театра в Петербурге не прерывалась. Напротив, репертуар новых патриотических пьес каждодневно обогащался; появилось даже много балетов, относящихся к военным событиям того времени. Спектакли в этот год давали только на Малом театре (нынешний Александрийский) и в доме Кушелева, где теперь Главный штаб. На первом играли французы и русские, на втором – немцы и молодая русская труппа, составленная из воспитанников театрального училища и немногих вновь определяющихся дебютантов…».
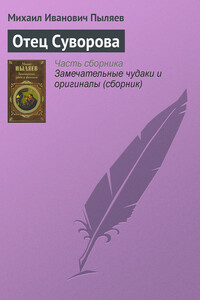
«В нашей исторической литературе нет совсем биографии Василия Ивановича Суворова, а между тем это был человек далеко незаурядный. Для облегчения будущего биографа В. И. Суворова я сообщаю в настоящей заметке те немногие и отрывочные сведения о нем, которые мне удалось найти как в печатных, так и в рукописных источниках…».
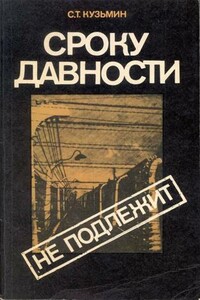
Это еще одна книга о зверином облике гитлеровского фашизма — ударного отряда мировой империалистической реакции, угрожавшего человечеству массовым истреблением. Ее автор, в прошлом ответственный сотрудник Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, участвовал в выяснении масштабов их злодеяний на территории СССР, Польши и других стран. На основе личных воспоминаний, документов, свидетельств очевидцев он воспроизводит страшную картину фашистского разбоя, показывает историческую роль Советского Союза в спасении миллионов людей от порабощения и гибели.Адресуется массовому читателю.http://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга воспоминаний австро-венгерского офицера о действиях речной флотилии на Дунае в годы Первой мировой войны. Автор участвовал в боевых действиях с момента объявления войны до падения Австро-Венгерской империи, находясь на различных командных должностях вплоть до командующего Дунайской флотилией.Текст печатается по изданию — «Австро-венгерская Дунайская флотилия в мировую войну 1914―1918 гг.» Л.: Военно-морская академия РККФ им. тов. Ворошилова, 1938 — с незначительной литературной обработкой, касающейся, главным образом, неудачных и архаичных выражений, без нарушения смысловой нагрузки.

Боец легендарного 181-го отдельного разведотряда Северного флота Макар Бабиков в годы Великой Отечественной участвовал в самых рискованных рейдах и диверсионных операциях в тылу противника — разгроме немецких гарнизонов на берегах Баренцева моря, захвате артиллерийской батареи на мысе Крестовый и др., — а Золотой Звезды Героя был удостоен за отчаянный десант в южнокорейский город Сейсин в августе 1945 года, когда, высадившись с торпедных катеров, его взвод с боем захватил порт и стратегический мост и, несмотря на непрерывные контратаки японцев, почти сутки удерживал плацдарм до подхода главных сил.Эта книга вошла в золотой фонд мемуаров о Второй мировой войне.

Впервые — Новый мир, 1928, № 9, с. 207–213. П. Е. Щеголев, всегда интересовавшийся творчеством и личностью великого русского писателя, посвятил ему, кроме данных воспоминаний, еще две статьи: "Популярность Толстого" (Вестник и Библиотека самообразования, 1904, № 4) и "Блондинка" в Ясной Поляне в 1910 году" (Былое, 1917, № 3 (25)), перепечатанную затем в его книге "Охранники и авантюристы" (М., 1930).Сборник избранных работ П. Е. Щеголева характеризует его исторические и литературные взгляды, общественную позицию.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
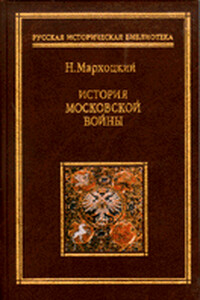
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.