Зачарованная величина: Избранное - [11]
Февраль 1976

Героиня романа – женщина, рожденная в 1977 году от брака советской гражданки и кубинца. Брак распадается. Небольшая семья, состоящая из женщин разного возраста, проживает в ленинградской коммунальной квартире с ее особенностями быта. Описан переход от коммунистического строя к капиталистическому в микросоциуме. Герои борются за выживание после распада Советского Союза, а также за право проживать на отдельной жилплощади в период приватизации жилья. Старшие члены семьи погибают. Действие разворачивается как чередование воспоминаний и дневниковых записей текущего времени.

Герой романа, как это часто бывает в антиутопиях, больше не может служить винтиком тоталитарной машины и бросает ей вызов. Триггером для метаморфозы его характера становится коллекция старых писем, которую он случайно спасает. Письма подлинные.

Четвертая книга монументального автобиографического цикла Карла Уве Кнаусгора «Моя борьба» рассказывает о юности главного героя и начале его писательского пути. Карлу Уве восемнадцать, он только что окончил гимназию, но получать высшее образование не намерен. Он хочет писать. В голове клубится множество замыслов, они так и рвутся на бумагу. Но, чтобы посвятить себя этому занятию, нужны деньги и свободное время. Он устраивается школьным учителем в маленькую рыбацкую деревню на севере Норвегии. Работа не очень ему нравится, деревенская атмосфера — еще меньше.

В книге описываются события жизни одинокой, престарелой Изольды Матвеевны, живущей в большом городе на пятом этаже этаже многоквартирного дома в наше время. Изольда Матвеевна, по мнению соседей, участкового полицейского и батюшки, «немного того» – совершает нелепые и откровенно хулиганские поступки, разводит в квартире кошек, вредничает и капризничает. Но внезапно читателю открывается, что сердце у нее розовое, как у рисованных котят на дурацких детских открытках. Нет, не красное – розовое. Она подружилась с пятилетним мальчиком, у которого умерла мать.
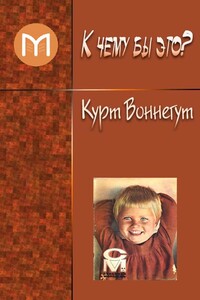
Папа с мамой ушли в кино, оставив семилетнего Поля одного в квартире. А в это время по соседству разгорелась ссора…
