Забытые - [7]
Сапоги тоже были Ивану Захарычу не по ноге: велики и при том сшиты как-то по-дурацки, с необыкновенно широкими, точно обрубленными топором носками, глядевшими кверху. Когда Иван Захарыч надел хозяйские брюки, подтянув их чуть ли не до горла, и спустил «на выпуск» на сапоги, то картина получилась неважная. Сапоги выглядывали из-под брюк, задравши свои широкие носы кверху с таким видом, как будто ждали чего-то удивительного…
Два мальчика-ученика, сидевшие в сторонке на верстаке и наблюдавшие эту сцену, потихоньку прыснули.
Наконец, примерка была кончена, все кое-как улажено… Осталось только ждать часа, когда надо было отправляться на смотрины… Соплюн приказал Ивану Захарычу снять с себя костюм: «Изомнешь до тех пор… грешным делом пятен наделаешь»… Жених покорно разделся и, оставшись в одной собственной ситцевой рубашке и в клетчатых «портках», надев на босу ногу опорки, уселся вместе с хозяином и Очком за чай…
Пили долго… Время тянулось бесконечно… Наконец, рассвело, ударили сначала у Николы на ямках к ранней, потом в женском «зачатейском» монастыре за рекой… Когда-то, когда отошли эти ранние и поздние обедни, и, наконец, стрелка, похожая на клешню рака, на огромных почерневших хозяйских часах остановилась на двенадцати и, как будто, шепнула часам: «ну, валяйте»!.. Часы сначала зажужжали, как муха, попавшая в лапы паука, потом проговорили, редко и как-то необыкновенно важно, двенадцать раз одно и то же: «Знаем, знаем! Знаем, знаем»!..
— П-пора! — сказал, заикнувшись, Соплюн. — Сряжайся, Иван Захарыч.
Иван Захарыч снова беспрекословно облачился…
— П-п-альтишко-то на плечи накинь, — сказал Соплюн, обозревая его. — В рукава не надевай… внакидку как-то п-п-п-осолидней…
— Грязно на улице-то, Марко Федрыч, страшное дело! — сказал Очко, — сапоги отгвоздаешь…
— Наплевать! — ответил Соплюн, — как-нибудь доползем. А ты что наденешь? — спросил он у Очка.
— Я-с? Мой костюм один-с… майский… пинжак, брюки, картуз…
— А пальтишко-то опять, видно, в ученьи?..
Очко, улыбаясь, молчал.
Наконец, сборы были окончены… Соплюн помолился в угол, где висела почерневшая доска с ликом Саввы Звенигородского, заставил сделать то же самое Ивана Захарыча и сказал:
— Ну, со Христом… пойдем!..
VIII
На улице, носившей название «Миллионная», было безлюдно и стояло «потопище» грязи.
Соплюн, осторожно ступая своими длинными ногами, точно на ходулях, крался около заборов, выбирая места, мало-мальски доступные для прохода… За ним, еще осторожнее, боясь «изгадить» хозяйские сапоги, накинув пальто внакидку, шел Иван Захарыч, а за Иваном Захарычем с «итальянкой» подмышкой, завернутой в газетную бумагу, в пиджачишке и тоже «брюки на выпуск», скакал, как заяц, стараясь попадать на след Ивана Захарыча, Очко…
Пройдя Миллионную, путники свернули в еще более глухую улицу с длинными заборами. Через заборы кое-где свешивались мокрые голые ветки рябин, лип, акаций. Улица упиралась в изрытый и загаженный берег речонки, на той стороне которой видны были кучи навоза, гряды, игрушечная сторожка, а дальше виднелись уже поля и село на горе…
Обыватели этой улицы, к числу которых и принадлежала Хима, занимались огородами, мелкой копеечной торговлишкой на базаре, мастерством сапожным, портняжным и т. п. Народ жил здесь бедный, словно отрезанный от мира, забытый, никогда не протестовавший, пуще огня боявшийся всякого начальства, хотя бы это начальство представлял собою какой-нибудь городовой «Морда»… Народ, ненавидящий, в большинстве случаев, бог знает почему, друг друга, завистливый, сплетничавший и с затаенным злорадством говоривший о несчастии ближнего.
Все и каждый следили здесь друг за другом… Все здесь знали, кто какой заваривает чай, что ест, и вряд ли кто-либо из обитателей этой улицы интересовался чем-нибудь другим, помимо «брюшного вопроса»…
«Сыт — и слава тебе, господи, а там хоть гори, мне наплевать»…
Жизнь тянулась вялая, печальная, похожая на вечную осень; «ни день, ни ночь, ни тьма, ни свет»…
Домишко, где жила Хима, как и все дома на этой улице, был деревянный, старый, почерневший, с окнами, выходившими не на улицу, а на огород, и был обнесен кругом забором из полусгнивших тесин. В этом заборе, со стороны улицы, были ворота, державшиеся постоянно на заперти, и калитка с покачнувшейся на левую сторону дверью. В калитку было вделано большое кольцо, которым и стучали, чтобы хозяева услышали и отперли.
Здесь, направо и налево, были канавы, обросшие «сабашником» и крапивой, куда из-под забора со двора стекала вонючая желтоватая жижа… На воротах сверху были приколочены, вероятно для красоты, два грубо сделанных из жести петуха, выкрашенных красной краской, а на брусу, над калиткой, был «пришит» гвоздями небольшой медный крест со звездочкой посредине…
Подойдя к калитке, Соплюн достал из кармана огромный клетчатый носовой платок, пропитанный запахом мяты, встряхнул им, высморкался, обтер лицо, окинул взглядом чему-то робко улыбавшегося Ивана Захарыча и сказал:
— П-п-п-ришли… оботри ноги-то… п-постучать надо…
Он взялся за кольцо и постучал им о дверь. За воротами сейчас же раздался кашель, и кто-то спросил тоненьким детским голоском:
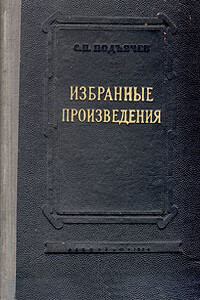
В сборник Семена Павловича Подъячева вошли повести «Мытарства», «К тихому пристанищу», рассказы «Разлад», «Зло», «Карьера Захара Федоровича Дрыкалина», «Новые полсапожки», «Понял», «Письмо».Книга предваряется вступительной статьей Т.Веселовского. Новые полсапожки.

ПОДЪЯЧЕВ Семен Павлович [1865–1934] — писатель. Р. в бедной крестьянской семье. Как и многие другие писатели бедноты, прошел суровую школу жизни: переменил множество профессий — от чернорабочего до человека «интеллигентного» труда (см. его автобиографическую повесть «Моя жизнь»). Член ВКП(б) с 1918. После Октября был заведующим Отделом народного образования, детским домом, библиотекой, был секретарем партячейки (в родном селе Обольянове-Никольском Московской губернии).Первый рассказ П. «Осечка» появился в 1888 в журн.
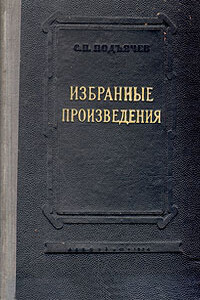
В сборник Семена Павловича Подъячева вошли повести „Мытарства“, „К тихому пристанищу“, рассказы „Разлад“, „Зло“, „Карьера Захара Федоровича Дрыкалина“, „Новые полсапожки“, „Понял“, „Письмо“.Книга предваряется вступительной статьей Т.Веселовского. Новые полсапожки.
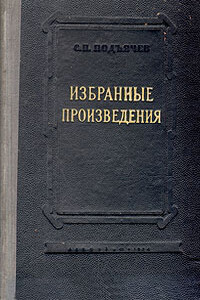
В сборник Семена Павловича Подъячева вошли повести «Мытарства», «К тихому пристанищу», рассказы «Разлад», «Зло», «Карьера Захара Федоровича Дрыкалина», «Новые полсапожки», «Понял», «Письмо».Книга предваряется вступительной статьей Т.Веселовского. Новые полсапожки.
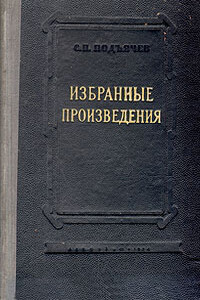
В сборник Семена Павловича Подъячева вошли повести «Мытарства», «К тихому пристанищу», рассказы «Разлад», «Зло», «Карьера Захара Федоровича Дрыкалина», «Новые полсапожки», «Понял», «Письмо».Книга предваряется вступительной статьей Т.Веселовского. Новые полсапожки.
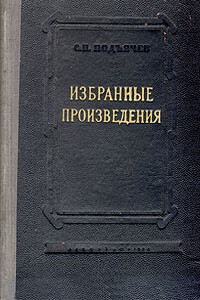
В сборник Семена Павловича Подъячева вошли повести «Мытарства», «К тихому пристанищу», рассказы «Разлад», «Зло», «Карьера Захара Федоровича Дрыкалина», «Новые полсапожки», «Понял», «Письмо».Книга предваряется вступительной статьей Т.Веселовского. Новые полсапожки.
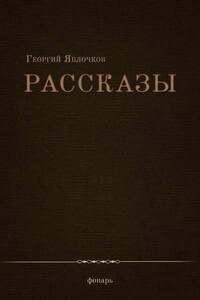
Георгий Алексеевич Яблочков — русский писатель.«Очаровательный, интересный человек Георгий Алексеевич, — отозвался о Яблочкове И. А. Бунин. — Вот настоящий, чуткий, глубокий, наблюдательный и умный писатель. Как настоящий талант, он тихий, ушедший в себя…».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В первый том собрания сочинений вошли ранние произведения Грина – рассказы 1906–1910 годов.Вступительная статья В. Вихрова.http://ruslit.traumlibrary.net.
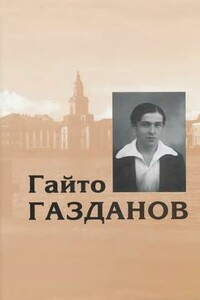
В первый том наиболее полного в настоящее время Собрания сочинений писателя Русского зарубежья Гайто Газданова (1903–1971), ныне уже признанного классика отечественной литературы, вошли три его романа, рассказы, литературно-критические статьи, рецензии и заметки, написанные в 1926–1930 гг. Том содержит впервые публикуемые материалы из архивов и эмигрантской периодики.http://ruslit.traumlibrary.net.

Произведения, составившие эту книгу, смело можно назвать забытой классикой вампирской литературы.Сборник открывает специально переведенная для нашего издания романтическая новелла «Таинственный незнакомец» — сочинение, которое глубоко повлияло на знаменитого «Дракулу» Брэма Стокера.«Упырь на Фурштатской улице», одно из центральных произведений русской вампирической литературы, до сих пор оставалось неизвестным как большинству современных читателей, так и исследователям жанра.«Мертвец-убийца» Г. Данилевского сочетает вампирическую историю с детективным расследованием.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.