За неимением гербовой печати - [6]
В соседней комнате, где ефрейтор Смыга возится со штабным хозяйством, слышатся чьи-то возбужденные голоса.
— Тихо вы, капитан отдыхает, — доносятся до Гурьянова слова Смыги.
— Я говорил: тихо, так нет, разбудили человека, — ворчит Смыга, когда капитан появляется в дверях.
— Ладно. В чем дело? — разглядывая вошедших, спрашивает капитан.
— Тут ребята прибились, просятся к нам в батальон, — объясняет солдат со шрамом.
— Куда просятся? — делая вид, что не расслышал, строго переспрашивает Гурьянов.
— В часть к нам, воевать желают, особенно этот, поменьше.
— За чем же остановка?! — не без иронии говорит капитан.
Солдат не замечает этого и доказывает, что кое-кто не прочь взять пацанов.
Гурьянов молчит под бременем вновь навалившихся на него педагогических забот. Нет, наверное, никогда не оставят они его в покое. Работая в школе, Гурьянову приходилось заниматься воспитанием, но какое пособие может ему подсказать, как поступить, когда какие-то мальчишки просят, чтобы их взяли на войну.
— Значит, кое-кто считает, что ребят надо зачислить в батальон? — уточняет капитан.
— Да, считают, — неуверенно подтверждает солдат, начиная улавливать неудовольствие комбата.
— А что из этой затеи получится, вы задумывались? Дети на войне.
— Мы и так все время на войне, — вырывается у меня.
Гурьянов наклоняет голову и с любопытством смотрит.
— А ты, брат, ветеран.
Мне обидно, что со мной разговаривают в таком полушутливом тоне, когда все более чем серьезно. К тому же я опасаюсь, что Мариан опять скажет что-нибудь не то.
— Вы можете нас не брать, но не верить и смеяться незачем, — все более обижаясь, срывающимся голосом говорю я и отворачиваюсь к стене.
— Скажите, пожалуйста, — протяжно говорит капитан, — кто же вам не верит.
Это явно начинает занимать его и, подвинув табурет, он садится напротив.
Можно, конечно, рассказать ему то, что мы рассказали солдатам, и тогда, вероятно, он изменит к нам отношение, но его манера говорить не располагает к откровенности.
А может, ничего необычного не происходит и мы зря обижаемся? Какой командир с бухты-барахты зачислил бы к себе в часть неизвестно откуда приблудившихся мальчишек.
В комнате совсем сумеречно. За окнами вечереет. Ефрейтор Смыга выходит в коридор и возвращается с зажженной керосиновой лампой… Пламя, пока он идет, колеблется, и продолговатые мазки копоти чуть прихватывают стекло. На лица падают зыбкие тени, искажая черты, меняя их по-своему. У капитана до неправдоподобия заострены скулы и подчеркнуто бугрится кадык из-под белой каемки подворотничка.
— Ну так как же? Пришли о чем-то просить, а теперь молчите, не понимаю, — примирительно, как мне кажется, говорит Гурьянов.
Он и впрямь не понимает, почему должен приноравливаться к этим мальчишкам.
— Они нам рассказывали только что, — приходит на помощь солдат. — У этого, поменьше, отец пограничник, служил здесь до войны, маму и сестру немцы убили, а у этого мать гестаповцы забрали.
— Так вы не здешние, не с хутора, — говорит капитан, — а я все хотел спросить, где хозяева.
— Прятались мы тут, — путаясь, поясняет Мариан, — хотели в Каменку идти, так один солдат сказал, чтобы мы тут ожидали.
— У него в Каменке тетка.
— А ты что намерен делать? — спрашивает капитан.
— Я с вами хочу, — настаиваю на своем, — мне некуда больше, у меня никого нет.
Гурьянов тягостно морщится и проводит ладонью по небритой щеке.
— Может, отец жив?
— Не знаю, может быть…
Эта мысль ко мне давно уже не приходила.
Вначале мы совсем ничего не знали об отце. А потом, когда мама еще была жива, вернулся один человек. Из плена бежал. Рассказывал, что с отцом до Пинска отходил, что случилось с ним потом — не знает.
И вот капитан одной фразой вновь всколыхнул во мне все. Я зажмурил глаза и отчетливо, почти осязаемо увидел отца. Он был таким, как в тот последний вечер перед войной. Я уже засыпал, когда он подошел ко мне в белоснежной сорочке и синем галифе, поправил одеяло и тихо, на цыпочках удалился к себе в комнату. Больше я его не видел, вернее видел мельком, когда с первыми выстрелами он бросился к двери, на ходу застегивая ремень с кобурой.
Капитан, должно быть, понял мое состояние.
— Ты не теряйся, все наладится.
— Теперь, конечно, наладится, — соглашаюсь я.
Соглашаюсь, но не нахожу успокоения в этом, потому что беседа неопределенна.
Ефрейтор Смыга вытаскивает из металлического футляра громоздкую, как сундук, пишущую машинку, устанавливает на столе. Кажется, ветхие доски проломятся под ее тяжестью. Смыга закладывает в машинку бумагу. Большие, негнущиеся пальцы с силой ударяют по клавишам, каким-то чудом умещаются на них, исторгая тупой, лязгающий треск.
— Погоди, и так голова болит, — останавливает его Гурьянов.
Но Смыга не слушает капитана, как бы подчеркивая, что есть более серьезные дела, чем разговор с пацанами.
— Погоди, говорю, — уже сердито приказывает капитан.
Ефрейтор нехотя перестает печатать и холодно смотрит в нашу сторону.
С дымящимися котелками в руках является Валентина.
— Ужин вам принесла, товарищ капитан.
«И эта туда же», — улыбается Гурьянов.
— Спасибо, без тебя бы с голоду помер.
— Конечно, сами никогда не подумаете о себе, — упрекает девушка.
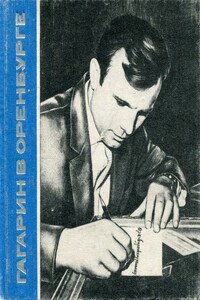
В книге рассказывается об оренбургском периоде жизни первого космонавта Земли, Героя Советского Союза Ю. А. Гагарина, о его курсантских годах, о дружеских связях с оренбуржцами и встречах в городе, «давшем ему крылья». Книга представляет интерес для широкого круга читателей.

Со времен Макиавелли образ политика в сознании общества ассоциируется с лицемерием, жестокостью и беспринципностью в борьбе за власть и ее сохранение. Пример Вацлава Гавела доказывает, что авторитетным политиком способен быть человек иного типа – интеллектуал, проповедующий нравственное сопротивление злу и «жизнь в правде». Писатель и драматург, Гавел стал лидером бескровной революции, последним президентом Чехословакии и первым независимой Чехии. Следуя формуле своего героя «Нет жизни вне истории и истории вне жизни», Иван Беляев написал биографию Гавела, каждое событие в жизни которого вплетено в культурный и политический контекст всего XX столетия.
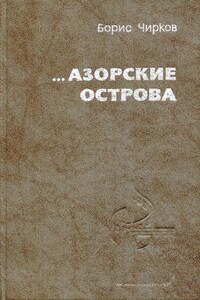
Народный артист СССР Герой Социалистического Труда Борис Петрович Чирков рассказывает о детстве в провинциальном Нолинске, о годах учебы в Ленинградском институте сценических искусств, о своем актерском становлении и совершенствовании, о многочисленных и разнообразных ролях, сыгранных на театральной сцене и в кино. Интересные главы посвящены истории создания таких фильмов, как трилогия о Максиме и «Учитель». За рассказами об актерской и общественной деятельности автора, за его размышлениями о жизни, об искусстве проступают характерные черты времени — от дореволюционных лет до наших дней. Первое издание было тепло встречено читателями и прессой.
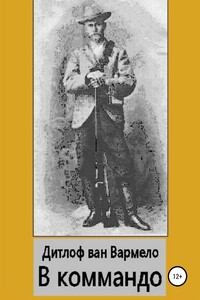
Дневник участника англо-бурской войны, показывающий ее изнанку – трудности, лишения, страдания народа.

Саладин (1138–1193) — едва ли не самый известный и почитаемый персонаж мусульманского мира, фигура культовая и легендарная. Он появился на исторической сцене в критический момент для Ближнего Востока, когда за владычество боролись мусульмане и пришлые христиане — крестоносцы из Западной Европы. Мелкий курдский военачальник, Саладин стал правителем Египта, Дамаска, Мосула, Алеппо, объединив под своей властью раздробленный до того времени исламский Ближний Восток. Он начал войну против крестоносцев, отбил у них священный город Иерусалим и с доблестью сражался с отважнейшим рыцарем Запада — английским королем Ричардом Львиное Сердце.

Автору этих воспоминаний пришлось многое пережить — ее отца, заместителя наркома пищевой промышленности, расстреляли в 1938-м, мать сослали, братья погибли на фронте… В 1978 году она встретилась с писателем Анатолием Рыбаковым. В книге рассказывается о том, как они вместе работали над его романами, как в течение 21 года издательства не решались опубликовать его «Детей Арбата», как приняли потом эту книгу во всем мире.