Язык птиц - [80]
Афористичность — своеобразный идеал бейта. Это свойство двустишие может утрачивать лишь в силу необходимости ускорять в эпическом повествовании развитие сюжета. Поэтому в тех случаях, когда бейт не сразу поддается расшифровке, следует искать в нем, как правило, афористический смысл, и в большинстве случаев именно такой смысл и проступает в нем:
Простота стиля Навои характерна и для образов суфийского содержания. При всей специфичности суфийской символики эти образы выражены у Навои просто и даже, можно сказать, чеканно: сложна сама символика, а не ее выражение.
Своеобразное любование словом и его выразительными возможностями проявляется и в том, что поэт часто использует в рамках двустишия игру слов.
Естественно, что воссоздание этой особенности текста требует от переводчика соответствующих замен (см., например, бейты 1116, 1170, 1171, 1914, 2126 и др.).
5
Среди рифм староузбекской поэзии значительное место занимают рифмы, представляющие собой одинаковые грамматические формы разных слов — идентичные формы падежей, глаголы в формах какого-нибудь одного времени, одинаковые формы деепричастий и т. п. Такая рифмовка свойственна не только произведениям, написанным в жанре маснави, т. е. с парными рифмами в пределах двустишия, но и газелям, где одинаковые грамматические формы рифмуются на протяжении 7 — 11, а иногда и большего числа бейтов.
Воспроизведение подобных же рифм в русском переводе нецелесообразно по эстетическим соображениям и сложно в силу грамматических причин. Известно, что русский язык избегает морфологически однородных рифм, и нанизывание в переводе подобных рифм (ходил — просил — вонзил..., домами — садами — прудами..., сверкая — слагая — считая...) чрезвычайно снизило бы художественный уровень перевода. Но дело не только в этом. Даже если переводчик и смирился бы с такой необходимостью, воспроизведение рифм этого типа ему просто не удалось бы в силу различий в грамматическом строе языков. Ведь характер окончаний слов в агглютинативном староузбекском языке существенно отличается от характера окончаний слов в русском языке с его флективным строем. Если, например, в староузбекском языке все имена существительные в обоих числах склоняются одинаково и, следовательно, в форме одного и того же падежа могут рифмовать друг с другом, то в русском языке, как известно, есть несколько типов склонения, и одинаковые падежные формы от разных слов имеют различные окончания, исключающие возможность использования их для рифм.
Однако рифмовка одинаковых грамматических форм — не единственная возможность рифменного оформления стиха в староузбекском языке. У Навои в поэме «Язык птиц» встречаются и такие морфологически различающиеся рифмы, которые схожи с рифмами, привычными для русского стиха: сингил — онглагил (сестра — пойми), кичик — жуссалик (маленький — дородность), иттофок^—яхширок (союз — лучше), бил — тил (знай — язык) и т. п.
Ответ на вопрос — какие рифмы Навои не употребляет, однозначен: он не использует рифм, невозможных в силу особенностей просодии, и рифм неточных. Поэтому переводчик должен использовать все возможности рифмовки в русском языке в пределах допускаемых языком точных рифм. Стиху Навои свойственно высокое совершенство формы, что проявляется, в частности, в отточенности и чеканности рифм. Это — традиция поэзии на персидскотаджикском и тюркских языках, приобретающая в творчестве поэта столь яркого дарования, как Навои, особую степень художественности. Среди точных рифм Навои выбирает точнейшие, и переводчик должен стремиться воспроизвести эту особенность техники Навои — ставить в исходе строки слово не просто рифмующее, а рифмующее с наибольшей точностью. Мне представляются наиболее соответствующими духу и стилю поэзии Навои рифмы с одинаковым опорным согласным:
Навои иногда прибегает к неожиданным возможностям рифмовки, и потому мне казалось допустимым (в определенных пределах) употребление таких точных рифм, которые характерны не для русской классической поэзии, а для поэзии новейшего времени:
Навои, следуя духу традиции, широко применял поэтические приемы, основанные на игре рифм. Составные и омонимические рифмы высоко ценились любителями поэзии того времени. Для создания таких рифм русский стих предоставляет широкие возможности:
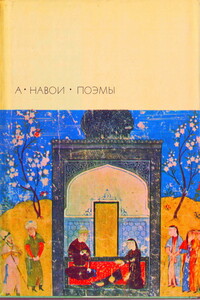
«Фархад и Ширин» является второй поэмой «Пятерицы», которая выделяется широтой охвата самых значительных и животрепещущих вопросов эпохи. Среди них: воспевание жизнеутверждающей любви, дружбы, лучших человеческих качеств, осуждение губительной вражды, предательства, коварства, несправедливых разрушительных войн.
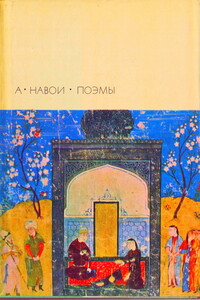
«Семь планет» — предпоследняя поэма «Пятерицы». Это остросюжетное многоплановое произведение, в котором ход повествования перебивается семью вставными новеллами в стихах. Причем каждая из них, при ее самостоятельном характере, связана с главной сюжетной линией поэмы, в центре которой история любви шаха Бахрама Гура и невольницы по имени Диларам.
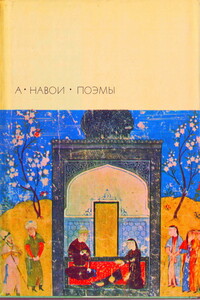
«Смятение праведных» — первая поэма, включенная в «Пятерицу», является как бы теоретической программой для последующих поэм.В начале произведения автор выдвигает мысль о том, что из всех существ самым ценным и совершенным является человек. В последующих разделах поэмы он высказывается о назначении литературы, об эстетическом отношении к действительности, а в специальных главах удивительно реалистически описывает и обличает образ мысли и жизни правителей, придворных, духовенства и богачей, то есть тех, кто занимал господствующее положение в обществе.Многие главы в поэме посвящаются щедрости, благопристойности, воздержанности, любви, верности, преданности, правдивости, пользе знаний, красоте родного края, ценности жизни, а также осуждению алчности, корыстолюбия, эгоизма, праздного образа жизни.
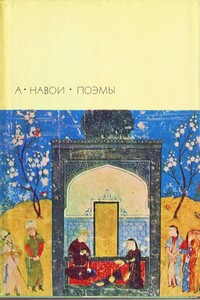
Удивительно широк и многогранен круг творческих интересов и поисков Навои. Он — поэт и мыслитель, ученый историк и лингвист, естествоиспытатель и теоретик литературы, музыки, государства и права, политический деятель. В своем творчестве он старался всесторонне и глубоко отображать действительность во всем ее многообразии. Нет ни одного более или менее заслуживающего внимания вопроса общественной жизни, человековедения своего времени, о котором не сказал бы своего слова и не определил бы своего отношения к нему Навои.
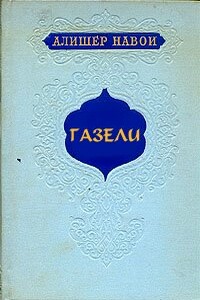
В произведениях Алишера Навои тюркский стих достиг вершин художественности, — его газели отличает филигранная обработка, виртуозная инструментовка, семантическая игра, свежесть метафор.
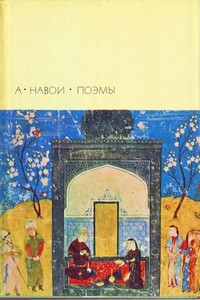
«Стена Искандара», пятая, последняя, поэма «Пятерицы», — объемное многоплановое эпическое произведение, в котором нашли свое отражение основные вопросы, волновавшие умы и сердца людей того далекого времени и представляет собой подлинную энциклопедию общественной жизни и мыслей эпохи Навои.Главным героем поэмы является Искандар, и почти весь сюжет произведения связан с его личностью, с его деятельностью и мировоззрением. В лице великого полководца древности Навои создает образ идеального правителя и противопоставляет его государственным деятелям своей эпохи.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
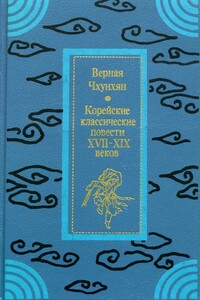
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
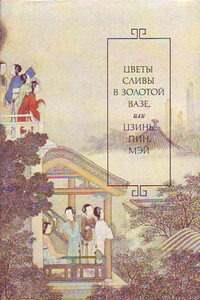
Самый загадочный и скандально знаменитый из великих романов средневекового Китая, был написан в XVII веке.Имя автора не сохранилось, известен только псевдоним — Ланьлинский Насмешник. Это первый китайский роман реалистического свойства, считавшийся настолько неприличным, что полная публикация его запрещена в Китае до сих пор.В отличие от традиционных романов, где описывались мифологические или исторические события, «Цзинь, Пин, Мэй» рассказывается веселой жизни пройдохи-нувориша в окружении его четырех жен и многочисленных наложниц.
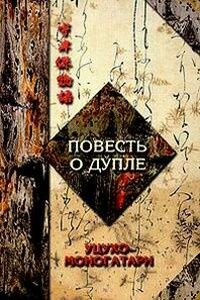
«Повесть о дупле» принадлежит к числу интереснейших произведений средневековой японской литературы эпохи Хэйан (794-1185). Автор ее неизвестен. Считается, что создание повести относится ко второй половине X века. «Повесть о дупле» — произведение крупной формы в двадцати главах, из произведений хэйанской литературы по объему она уступает только «Повести о Гэндзи» («Гэндзи-моногатари»).Сюжет «Повести о дупле» близок к буддийской житийной литературе: это описание жизни бодхисаттвы, возрожденного в Японии, чтобы указать людям Путь спасения.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
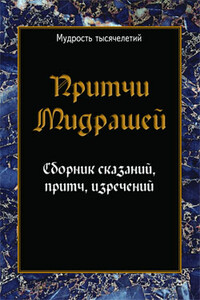
Не относись к притче пренебрежительно. Подобно тому, как при свете грошовой свечки отыскивается оброненный золотой или жемчужина, так с помощью притчи познается истина.

Трагедия, сюжет которой заимствован Расиным у Еврипида. Трагедия, первоначально носившая заглавие «Федра и Ипполит», была впервые представлена в Бургундском отеле 1 января 1677 г. Шедевр Расина окончательно утвердил свои права на парижской сцене. Тогда же вышло и первое издание пьесы. Заглавие «Федра» появилось лишь в собрании трагедий Расина в 1687 г.
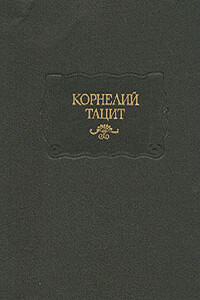
Великий труд древнеримского историка Корнелия Тацита «Анналы» был написан позднее, чем его знаменитая «История» - однако посвящен более раннему периоду жизни Римской империи – эпохе правления династии Юлиев – Клавдиев. Под пером Тацита словно бы оживает Рим весьма неоднозначного времени – периода царствования Тиберия, Калигулы, Клавдия и Нерона. Читатель получает возможность взглянуть на портрет этих людей (и равно на «портрет» созданного ими государства) во всей полноте и объективности исторической правды.
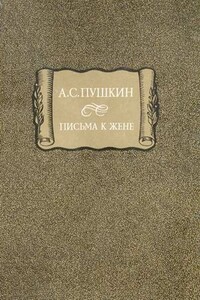
Письма А. С. Пушкина к жене — драгоценная часть его литературно-художественного наследия, человеческие документы, соотносимые с его художественной прозой. Впервые большая их часть была опубликована (с купюрами) И. С. Тургеневым в журнале «Вестник Европы» за 1878 г. (№ 1 и 3). Часть писем (13), хранившихся в парижском архиве С. Лифаря, он выпустил фототипически (Гофман М. Л., Лифарь С. Письма Пушкина к Н. Н. Гончаровой: Юбилейное издание, 1837—1937. Париж, 1935). В настоящей книге письма печатаются по изданию: Пушкин А.С.
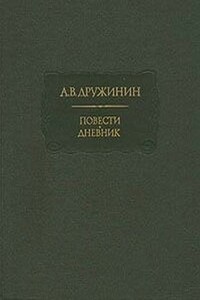
Юная жена важного петербургского чиновника сама не заметила, как увлеклась блестящим офицером. Влюбленные были так неосторожны, что позволили мужу разгадать тайну их сердец…В высшем свете Российской империи 1847 года любовный треугольник не имеет выхода?