Я, верховный - [179]
Всегда, до конца жизни, его неотступно преследовала мысль о реке — свободной дороге! (Юлий Цезарь, op. cií.)
Поликарпо Патиньо, как и предвидел Верховный, ненадолго избежал исполнения приговора. После смерти Диктатора, последовавшей 20 сентября 1840 года, обезглавленную власть путем дворцовой интриги захватили высшие чины парагвайской армии, сформировавшие хунту. Эта хунта была свергнута в результате военного переворота, который возглавил другой «маршал» Покойного Диктатора — сержант Ромуальдо Дуре (пекарь). Поликарпо Патиньо, бывший секретарь Верховного, а потом секретарь и серое преосвященство свергнутой хунты, был арестован и повесился в своей камере на веревке от гамака. (Прим. сост.)
«24 августа 1840 года, в день святого Варфоломея, под влиянием своего слуги, этого исчадия ада, Диктатор перед смертью поджег все важные документы, письма, указы, приговоры, не предвидя, это прожорливый огонь может охватить и его кровать. Задыхаясь от дыма, он в отчаянии позвал на помощь своих слуг и охрану. Двери и окна распахнулись, и на улицу полетели тлеющие тюфяки, одеяла, предметы одежды и горящие бумаги. Сколь ясное предвестие пламени, в котором со следующего месяца будет вечно гореть его душа! Одно несомненно: при этом случае прохожие, сумевшие совладать с охватившим их ужасом, впервые увидели интерьеры мрачного Дома Правительства. Некоторые даже останавливались и разглядывали опаленные обрывки бумазеи, не известной в стране ткани, из которой делались простыни Верховного.
Католики считают 24 августа днем, когда бес сам выходит из одержимого. Многие сопоставили это обстоятельство с цветом плата, который носил Диктатор, и сделали вывод, что его конец близок». (Мануэль Педро де Пенья. Письма.)
Огонь мешкает, как бы раздумывая, с какого конца по-настоящему взяться за дело. Шелестит бумагами, которые опаляет и превращает в дым и пепел. Взметается искрами по углам. Но пока не отваживается приблизиться ко мне; наверное, не может перебраться через трясину, окружающую мое ложе. Вода и огонь, из которых я возник, теперь вступают в заговор, чтобы предать меня финальному одиночеству. Я один в чужой стране, стране настоящих идиотов. Один. Без происхождения. Без будущности. В вечном заточении. Один. Без поддержки. Без защиты. Обреченный без отдыха бродить. Последовательно изгнанный из всех прибежищ, которые я избрал. Бессильный сойти в могилу... Ну ладно, хватит! Смерти не удастся погрузить тебя в жалость к самому себе, которой ты не запятнал свою жизнь. Мертвые очень слабы. Но живой мертвец в смерти втрое сильнее.
Я согласен, что эта борьба ad astra per aspera[372] сделала меня межеумком с двумя душами. Одна, моя холодная душа, смотрит уже с того берега, где время останавливается и начинает пятиться назад. Другая, горячая душа, еще бодрствует во мне. Приверженец абсолютного сомнения, я еще могу передвигаться, волоча мою дневную, чудовищно распухшую правую ногу и опираясь на левую, ночную. Эта еще не сдала. Выдерживает мою тяжесть. Я сейчас встану на минутку. Надо раздуть огонь. Из моего Я выходит ОН, снова сваливая меня на кровать как бы толчком отдачи. Хлопает меня по плечу. Огонь сразу разгорается. Опять весело пляшет, с еще большей энергией, чем раньше. От его вспышек в комнате светает. ОН снова хлопает меня по плечу. Этот хлопок гремит, как пушечный выстрел. Сбегаются драгуны, гусары, гренадеры с ведрами воды и тачками с песком. Весь личный состав со всеми наличными средствами. Как тогда, когда я приказал сжечь Хосе Томаса Исаси на пороховом костре, и огненная желтая лава захлестнула даже мою собственную комнату. Теперь пожар тоже потушен смерчами воды и песка. Грязь затопляет помещение, хлынув через двери, окна, отдушины. Просачивается через щели в потолке. Падает крупными каплями. Каплищами расплавленного свинца, одновременно раскаленного и ледяного. Этот ливень пробирает меня до костей. Там и тут взметаются грязевые смерчи. Все в моем логове пропитывает, сжигает, буравит, пачкает, леденит, расплавляет свинцовая грязь, превращая комнату в переполненную помойную яму, где плавают ослизлые ледышки и островки пламени. А посреди всего этого, высоко держа голову, со своей всегдашней неустрашимостью, стоит ОН, все тот же Верховный Властитель, что и в первый день. Одна рука за спиной, другая на груди, за лацканом сюртука. Его не касаются порывы ветра и брызги грязи. Собрав последние силы, я бросаю ему оскорбление, словно плюю в лицо сгустком крови. Я хочу вывести его из себя; даже если нас похоронят в разных концах света, один и тот же пес найдет нас обоих! Я не узнаю свой собственный голос, это дуновение, которое исходит из легких и приводит в движение весь фонический аппарат. Мои голосовые связки, мышцы, желудочки, нёбо, язык, зубы, губы больше не производят того эфемерного шума, что мы называем голосом. Я так давно не кричал! Согласовать слово со звучанием мысли — это самое трудное на свете. В темноте я провожу рукой по лицу. Я не узнаю его. Надо различать в лампе два фокуса света. Один черный, другой белый. А у человека два лица. Одно живое, другое мертвое. ОН остается безучастным. Не обращает на меня внимания. Открывает дверь. Направляется в вестибюль. Выходит из дому. Я вижу в портике его фосфоресцирующий силуэт в нимбе белого и черного света. Я слышу, как он говорит пароль начальнику охраны: РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ! Его голос наполняет ночь. Это последний пароль, который мне суждено услышать. С ним и остается сопряжена судьба моих сограждан. От этого клика дрожит земля. Он перекатывается от одного часового к другому и разносится во все пределы ночи. Теперь окончательно Я — это ОН. ОН — это Я, ВЕРХОВНЫЙ. Извечный и вечный. Мне остается только проглотить мою старую кожу. Я слинял, она уже не моя. А я немой. Теперь меня слушает одна тишина, терпеливая, безмолвная тишина, сидящая возле меня, на мне. Только рука продолжает беспрерывно писать. Наделенная самостоятельной жизнью, подобная зверьку, который непрестанно мечется и изворачивается. Она все пишет и пишет, содрогаясь и корчась в конвульсиях, как конвульсионеры. Ultimo ratio

В 1959 году в Аргентине увидел свет роман "Сын человеческий". В 1960–1962 годах роман был отмечен тремя литературными премиями в Аргентине, США и Италии как выдающееся произведение современной литературы Латинской Америки. Христианские и языческие легенды пронизывают всю ткань романа. Эти легенды и образы входят в повседневный быт парагвайца, во многом определяют его поведение и поступки, вкусы и привязанности. Реалистический роман, отображающий жизнь народа, передает и эту сторону его миросозерцания.Подлинный герой романа рабочий Кристобаль Хара, которому его товарищи дали ироническое прозвище "Кирито" (на гуарани Христос)
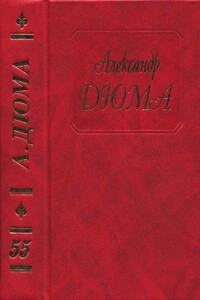
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
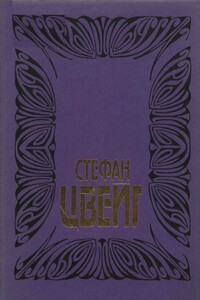
Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881 — 1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В девятый том Собрания сочинений вошли произведения, посвященные великим гуманистам XVI века, «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского», «Совесть против насилия» и «Монтень», своеобразный гимн человеческому деянию — «Магеллан», а также повесть об одной исторической ошибке — «Америго».

Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В третий том вошли роман «Нетерпение сердца» и биографическая повесть «Три певца своей жизни: Казанова, Стендаль, Толстой».

«Заплесневелый хлеб» — третье крупное произведение Нино Палумбо. Кроме уже знакомого читателю «Налогового инспектора», «Заплесневелому хлебу» предшествовал интересный роман «Газета». Примыкая в своей проблематике и в методе изображения действительности к роману «Газета» и еще больше к «Налоговому инспектору», «Заплесневелый хлеб» в то же время продолжает и развивает лучшие стороны и тенденции того и другого романа. Он — новый шаг в творчестве Палумбо. Творческие искания этого писателя направлены на историческое осознание той действительности, которая его окружает.

Во 2 том собрания сочинений польской писательницы Элизы Ожешко вошли повести «Низины», «Дзюрдзи», «Хам».
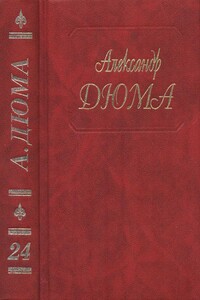
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.