Я сын батрака. Книга 1 - [3]
На нашей улице росли три высокие вербы, они находились у ограды Беленковых, это немного наискось от нашего двора. Деревья были большие, и они украшали нашу улицу. Мальчишками мы постоянно соревновались, кто выше залезет. Были и неприятности, кто-то падал, и я не исключение. А вот рядом с вербами рос широколистный тополь с белыми листьями, и поэтому его называли Белолистка, он находился у хаты Паки. Это дерево было очень высокое, что лазить на него мы не решались. Этот тополь был тем и знаменит, что деревьев, выше него у нас на хуторе не было. И когда наш хутор уничтожали, были уничтожены и все деревья. По рассказу Алексея Ивановича Лаврова, варвары никак не могли справиться с тополем. Тогда они экскаватором пень от дерева выдрали с корнем. Но тополь оказался настолько живуч, что через некоторое время ожил, и у него появились новые побеги и начали уверенно развиваться. Характерная черта нашего хутора — ямы, которые были накопаны по всей длине улицы, на которой мы жили. Одни довольно большие и глубокие, но были и небольшие. Только одна была, по нашим меркам, очень глубокая. Глубина её была, наверное, метра три или четыре, а может и больше, точно её никто не мерил. Она находилась напротив хаты Рукавицыных с одной стороны и Гаркушиных с другой. Когда она заполнялась водой, то мы в ней боялись купаться, а только ходили вокруг неё и смотрели. А взрослые парни прыгали в неё и купались. Я сидел на берегу и думал: «Вот я вырасту и буду таким же большим как Мыкола Стаценко, и тоже буду с разгона прыгать в эту глубину». Главное то, что хоть посреди улицы были накопаны довольно объёмные ямы, но они, ни в коем случае, не мешали движению по нашей улице. Правда и движение было не ахти какое, но всё же. Думаю, всё это благодаря устроителям. Они заложили в проект (если он был, конечно) широкие улицы, метров по 50 не менее. Улицы были настолько широкие, что было, где разгуляться. Молодёжь на них играла в лапту, догонялки, водили хороводы, а позже когда подросло наше, более продвинутое поколение, то мы уже играли в футбол на этой же улице. А на дороге было столько пыли, что наши босые ноги скрывались по щиколотку. В дождливую погоду на ней было столько грязи, что невозможно было проехать. Дядьки едут на бричках ругают эту грязь, а мы мальчишки используем её как лёд. Разгоняемся и с хода скользим на своих босых ногах. Дядьки нас ругают, а нам хотя бы хны, веселимся до упаду. А о фруктовых деревьях, которые росли во дворах нашего хутора, мне, наверное, и писать не надо, каждый знает, что на юге нашей страны везде растут сады. А еще, на нашей Главной улице находились такие социально важные здания как школа, клуб, правление колхоза, а позже бригады, магазин, кузница. Кузница сначала находилась между дворами Звады и Беловола, а затем её перенесли к правлению бригады. А ещё раньше, во время моего раннего детства, в этом здании находилась конюшня, где стояли и лошади моего отца, пара гнедых. Лошадей кормили овсом, а, как известно, овёс все любят, не только лошади и дети, но даже и англичане. Помните, «Овсянка, сэр», в фильме про Шерлока Холмса, ещё овёс любят и грызуны. Для информации хочу сказать что, на юге России все села, хутора, станицы были похожи друг на друга, потому что строили люди выходцы из одних и тех же мест. Я побывал во многих селениях юга России и видел, что они очень похожи на наш хутор Северный. Если смотреть на него издалека — то посреди выезженной солнцем травы (это в августе- сентябре месяце) он виден как зеленый оазис. Все его хаты утопали в зелени садов, которых в хуторе было большое множество. И только кое-где виднелась красная черепица крыш. На восточной торцевой части хутора находился колхозный огород, лакомое место для нас голодных босоногих мальчишек. Там росли арбузы, дыни, огурцы, помидоры, виноград. Все посадки, созревали, в основном, в конце августа, и в это время он особенно привлекал нас. Конечно, огороды были в каждом дворе, но за ними нужен хороший уход, поливать, пропалывать, а делать это было некому. Родители от зари до зари были на колхозном поле, а за огородом смотрели мы, ребятня восьми-двенадцати лет, а дети, которые были постарше, те тоже работали в колхозе, но без оплаты, по той причине, что они были несовершеннолетние. Чтобы хорошо поливать растения в огороде надо было много воды, а нам было не под силу её таскать из колодца, который находился на улице, метрах в сорока от нашего двора. Вот потому и поливали, ни как надо, а как получится. На колхозном же огороде было всё совсем по-другому. Там работали взрослые дяди и тёти, знающие технологию выращивания растений, воды там было достаточно — прямо посреди огорода был вырыт колодец. Для накопления воды там стояли большие чаны, в них вода на солнце прогревалась, а затем ею поливали растения. Вот потому там растения росли и кустились, прямо как в настоящем райском уголке. Вот туда мальчишек и тянуло так, что сил не было сопротивляться. После удачного набега на огород, мы с добытыми трофеями бежали к своему огороду, и там, в канаве, наслаждались своим успехом. Но это было не часто, так что огород от наших набегов сильно не страдал. Ну ладно, я отвлёкся от темы, вернёмся к ней. Так вот, хутор состоял из двух улиц, их пересекали три переулка. Главный переулок находился посредине хутора, на нём были все достопримечательности нашего хутора Северного. Такие, как здание правления колхоза, колхозный двор, на котором стояли скирды сена и соломы, клуб, Ласуновский колодец, ну и всё, наверное. Дорога проходила по этому переулку и пролегала до МТФ, а далее до посёлка Чунус, который находился от нашего хутора в семи километрах. На третьем переулке были зернохранилище и старая кузница. А вот на первом переулке находилось то, что было мило нашему детскому сердцу, это огород, о котором я уже писал, и Дерина яма. Её так называли, потому что рядом с ней раньше жил дед Дера, но когда мы туда ходили купаться, то деда Деры уже не было. Ранней весной или когда пройдут дожди, мы плескались в Дериной яме, именно в это время, но это было редко, так как очень редко шли дожди. Когда же это случалось, для нас наступал настоящий праздник. Правда, несмотря на то, что вода в ней была грязная настолько, что похожа была на нефть, нас это не останавливало, мы с радостью плюхались туда. Черноту воде придавал наш чернозём, он тогда был такой жирный, что старики о нём говорили так: «Бери на нож и намазывай на хлеб вместо масла». Вот потому вода и была похожей на нефть. В эти счастливые дни ребятня собиралась со всей округи — и мальчишки, и девчонки, но девчонки не купались по той причине, что они были без трусиков, в то время в нашей хуторской местности их просто не существовало, и поэтому их не носили. Но и они принимали непосредственное участие в процессе, кричали, визжали, подбадривали нас, мальчишек, и смеялись над нами, когда мы выныривали из этой жижи все неузнаваемо одинаково грязные и чёрные, словно негритята. Зато мальчишкам была лафа, голышом купались до одури, не обращая внимания на девчонок и даже бравируя перед ними. Загорали тут же у ямы правда загара как такового не получалось по той причине что кожа была покрыта грязью, и она лучи солнца не пропускала, но нас это не беспокоило — немного согрелись и снова в воду, то есть в грязную жижу. Как только солнце покатилось к закату, у нас начинаются проблемы, где обмыться. Домой в таком виде идти нельзя от мамы попадёт по первое число, значит надо найти где помыться. Самый лучший вариант был искупаться в чанах, в которых пастухи запасали воду, чтобы вечером напоить скот. Но в последнее время этот вариант стал нам не доступен. Пастухи на чаны сделали крышки и закрыли их на замок, чтобы не дать нам возможности в них обмываться. Видите ли, после нашего обмывания в чанах, животные из них эту воду не пьют. А как было хорошо, чаны большие, воды в них много, она чистая, плюхаешься в ней с наслаждением, но теперь всё, запрет, надо было искать выход и мы его нашли.
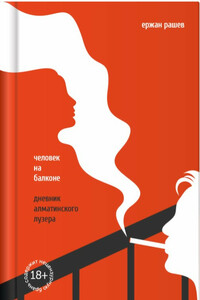
«Человек на балконе» — первая книга казахстанского блогера Ержана Рашева. В ней он рассказывает о своем возвращении на родину после учебы и работы за границей, о безрассудной молодости, о встрече с супругой Джулианой, которой и посвящена книга. Каждый воспримет ее по-разному — кто-то узнает в герое Ержана Рашева себя, кто-то откроет другой Алматы и его жителей. Но главное, что эта книга — о нас, о нашей жизни, об ошибках, которые совершает каждый и о том, как не относиться к ним слишком серьезно.
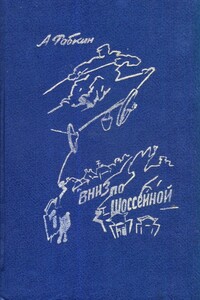
Абрам Рабкин. Вниз по Шоссейной. Нева, 1997, № 8На страницах повести «Вниз по Шоссейной» (сегодня это улица Бахарова) А. Рабкин воскресил ушедший в небытие мир довоенного Бобруйска. Он приглашает вернутся «туда, на Шоссейную, где старая липа, и сад, и двери открываются с легким надтреснутым звоном, похожим на удар старинных часов. Туда, где лопухи и лиловые вспышки колючек, и Годкин шьёт модные дамские пальто, а его красавицы дочери собираются на танцы. Чудесная улица, эта Шоссейная, и душа моя, измученная нахлынувшей болью, вновь и вновь припадает к ней.
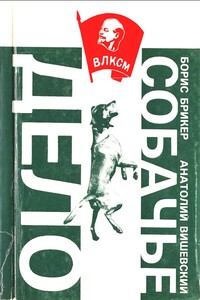
15 января 1979 года младший проходчик Львовской железной дороги Иван Недбайло осматривал пути на участке Чоп-Западная граница СССР. Не доходя до столба с цифрой 28, проходчик обнаружил на рельсах труп собаки и не замедленно вызвал милицию. Судебно-медицинская экспертиза установила, что собака умерла свой смертью, так как знаков насилия на ее теле обнаружено не было.
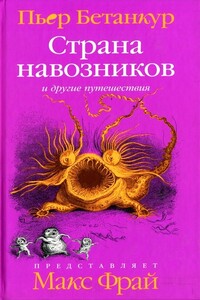
Книга «Естественная история воображаемого» впервые знакомит русскоязычного читателя с творчеством французского литератора и художника Пьера Бетанкура (1917–2006). Здесь собраны написанные им вдогон Плинию, Свифту, Мишо и другим разрозненные тексты, связанные своей тематикой — путешествия по иным, гротескно-фантастическим мирам с акцентом на тамошние нравы.
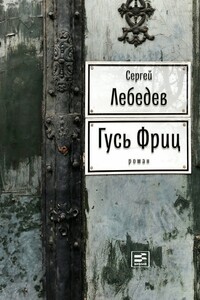
Россия и Германия. Наверное, нет двух других стран, которые имели бы такие глубокие и трагические связи. Русские немцы – люди промежутка, больше не свои там, на родине, и чужие здесь, в России. Две мировые войны. Две самые страшные диктатуры в истории человечества: Сталин и Гитлер. Образ врага с Востока и образ врага с Запада. И между жерновами истории, между двумя тоталитарными режимами, вынуждавшими людей уничтожать собственное прошлое, принимать отчеканенные государством политически верные идентичности, – история одной семьи, чей предок прибыл в Россию из Германии как апостол гомеопатии, оставив своим потомкам зыбкий мир на стыке культур.
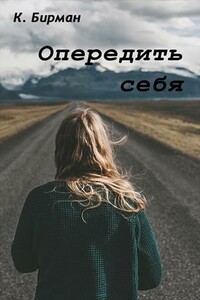
Я никогда не могла найти своё место в этом мире. У меня не было матери, друзей не осталось, в отношениях с парнями мне не везло. В свои 19 я не знала, кем собираюсь стать и чем заниматься в будущем. Мой отец хотел гордиться мной, но всегда был слишком занят работой, чтобы уделять достаточно внимания моему воспитанию и моим проблемам. У меня был только дядя, который всегда поддерживал меня и заботился обо мне, однако нас разделяло расстояние в несколько сотен километров, из-за чего мы виделись всего пару раз в год. Но на одну из годовщин смерти моей мамы произошло кое-что странное, и, как ни банально, всё изменилось…