Высочайшая бедность. Монашеские правила и форма жизни - [27]
В действительности – на что, судя по всему, намекает Витгенштейн – сама идея учредительного правила подразумевает отказ от расхожего представления, согласно которому вся проблема правила заключается просто в применении общего принципа к отдельному случаю, то есть в соответствии с кантовской моделью определяющего суждения сводится к чисто логической операции. Проект киновии, перенося этическую проблему с уровня отношения между нормой и действием на уровень формы жизни, судя по всему, заново ставит под вопрос саму дихотомию правила и жизни, универсального и частного, необходимости и свободы, при помощи которых мы и привыкли понимать этику.
2.
Устность и письмо
2.1. Именно в этой перспективе мы и попытаемся взглянуть на природу правил, исходя из их текстуальной структуры, какой она представлена в самых древних правилах и, в частности, в тексте «Правила Учителя», которому – в том числе из-за его влияния на бенедиктинское правило – исследователи уделяли особое внимание. Уже отмечалось, что в самой древней монашеской литературе авторы, часто безвестные, эксплицитно и более или менее осознанно устанавливают сложное отношение и почти что напряжение между устностью и письмом, в связи с чем можно говорить о некой «фикциональной устности» (Frank, p. 55). Уже в архетипических Regulae fusius tractatae134 Василия вступление начинается с упоминания «собрания» (synelēlythamen, «мы сошлись вместе»), участники которого, решившие «жить согласно благочестию» (tou biou tou kat’eusebian), ставят перед собой задачу познать то, что может вести их к спасению (mathein ta ton pros sōtērian – PG, 31, col. 889; Василий Великий, с. 149). Что речь идет о самой настоящей мизансцене, подтверждается тем, что текст после этого упоминает неопределенное, но подходящее место и время, на основании чего мы должны полагать, что вопросы и ответы, составляющие правило, здесь произносятся вслух (а потом переносятся в письменную форму): «настоящее время для нас весьма удобно, а место сие доставляет полную тишину и освобождение от внешнего шума» (ibid.; там же).
Аналогичным образом начало «Правила четырех отцов» повествует о встрече и разговоре четырех протагонистов, чьей целью будет «упорядочить образ жизни или правило жизни братьев» (Sedentibus nobis in unum… – «пока мы заседаем вместе» – … qualiter fratrum conversationem vel regulam vitae ordinare possimus – Vogüé I, 1, p. 180). Во второй речи, которую произносит Макарий, этот святой отец открыто указывает на то, что правило записывается по ходу диалога: quoniam fratrum insignia virtutum… superis conscripta praevenerunt – «и поскольку признаки добродетели братьев были ранее записаны» (ibid., p. 184). При помощи особого трюка и продуманной мизансцены устной речи текст указывает на процесс письма самого себя.
Хотя во «Втором правиле отцов» мизансцена может показаться той же самой (Residentibus nobis in unum…), напряжение между устностью и письмом изменяется, поскольку теперь речь открыто идет о том, чтобы conscribere vel ordinare regulam, quae in monasterio teneatur ad profectum fratrum – «записать и упорядочить правило, коего должно придерживаться в монастыре к вящей пользе для братьев» (p. 274). И, поскольку целью заседания эксплицитно заявляется запись правила, становятся возможными те семантические колебания, что позволяют прочитать термин regula не только в смысле «образа жизни» (как это было в incipit «Правила четырех отцов»), но также и как «написаный текст».
В «Третьем правиле отцов» (его автором, согласно Вогюэ, был некий епископ) переход от устности к письму уже совершился, поэтому речь идет уже не о том, чтобы писать, но о том, чтобы читать правило: «Поскольку мы объединились с нашими братьями во имя Господа, мы решили читать по порядку правило и установления отцов» (regula et instituta partum per ordinem legerentur) (p. 532). Правило отныне является письменным текстом, который по этой причине может и должен читаться, и в первую очередь – новообращенному, подающему прошение о вступлении в монастырь («если кто захочет обратиться от мира к монастырю, то на входе ему читают правило» – ibid.).
С появлением бенедиктинского правила мы видим исчезновение напряжения между устностью и письмом, оживлявшего святоотеческие правила, хотя само бенедиктинское правило из них и происходит. Теперь правило является исключительно текстом, в последней главе обозначенным как regula descripta (regulam hanc descripsimus… hanc minimam regulam descriptam… perfice135 – Pricoco, p. 270–272). Если conscribere ранних правил заставляло думать о тексте, который диктуется живыми голосами Отцов и является транскрипцией и извлечением из самой жизни монахов, то describere – это технический термин для писца, копирующего другой текст. В соответствии с традицией, которая, как мы видели, начинает становиться обязательной в каролингскую эпоху, правило – это всегда regula descripta, в которой как напряжение между устностью и письмом, так и напряжение между объективным и субъективным значениями синтагмы regulae vitae уже исчезли.
2.2. В чем же состоит эта диалектика, которую – по крайней мере, в эпоху до святого Бенедикта – текст правил устанавливает между устностью и письмом? Почему правила так настойчиво разыгрывают сцену своей записи и своего чтения? Речь идет не о простой риторической конструкции или фикциональной устности и не только о том (хотя, конечно, и об этом тоже), чтобы при помощи игры между письмом и устностью показать правило в его акте самоучреждения как текста и приобретения им авторитета, переходящего от правила – формы жизни к правилу-тексту. Вопрос, скорее, стоит об установлении особого статуса текста правила, не являющегося одним только письменным текстом или просто устной речью, консистентность которого не совпадает ни с записью жизненной практики, ни, наоборот, с практическим исполнением записанного правила. То есть правило разыгрывает сцену чего-то, что не исчерпывается ни в одном из этих измерений, но обретает свою истину только в напряжении, которое возникает между ними. Не письмо и не живой голос, не кодекс законов и не жизненная практика – правило безостановочно движется между этими полюсами, в поисках идеала совершенной общей жизни, которую как раз и нужно определить.
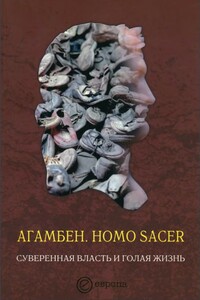
Джорджо Агамбен (р. 1942) - выдающийся итальянский философ, автор трудов по политической и моральной философии, профессор Венецианского университета IUAV Европейской школы постдипломного образования, Международного философского колледжа в Париже и университета Масераты (Италия), а также приглашенный профессор в ряде американских университетов. Власть - такова исходная мысль Агамбена, - как, впрочем, и язык, как и бытие, имеет в себе нечто мистическое, ибо так же, как язык или бытие, она началась раньше, чем началась.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сборник эссе итальянского философа, впервые вышедший в Италии в 2017 году, составлен из 5 текстов: – «Археология произведения искусства» (пер. Н. Охотина), – «Что такое акт творения?» (пер. Э. Саттарова), – «Неприсваиваемое» (пер. М. Лепиловой), – «Что такое повелевать?» (пер. Б. Скуратова), – «Капитализм как религия» (пер. Н. Охотина). В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
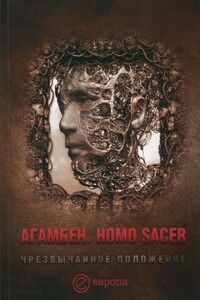
Чрезвычайное положение, или приостановка действия правового порядка, которое мы привыкли считать временной мерой, повсюду в мире становится парадигмой обычного управления. Книга Агамбена — продолжение его ставшей классической «Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь» — это попытка проанализировать причины и смысл эволюции чрезвычайного положения, от Гитлера до Гуантанамо. Двигаясь по «нейтральной полосе» между правом и политикой, Агамбен шаг за шагом разрушает апологии чрезвычайного положения, высвечивая скрытую связь насилия и права.
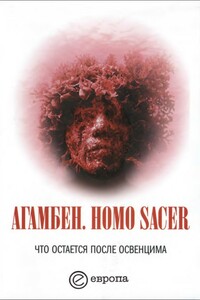
Книга представляет собой третью, заключительную часть трилогии «Homo sacer». Вслед за рассмотрением понятий Суверенной власти и Чрезвычайного положения, изложенными в первых двух книгах, третья книга посвящена тому, что касается этического и политического значения уничтожения. Джорджо Агамбен (р. 1942) — выдающийся итальянский философ, автор трудов по политической и моральной философии, профессор Венецианского университета IUAV, Европейской школы постдипломного образования, Международного философского колледжа в Париже и университета Масераты (Италия), а также приглашенный профессор в ряде американских университетов.
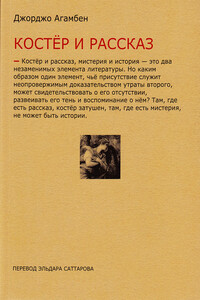
«Костёр и рассказ, мистерия и история – это два незаменимых элемента литературы. Но каким образом один элемент, чьё присутствие служит неопровержимым доказательством утраты второго, может свидетельствовать о его отсутствии, развеивать его тень и воспоминание о нём? Там, где есть рассказ, костёр затушен, там, где есть мистерия, не может быть истории…» Вашему вниманию предлагается вышедший в 2014 г. в Италии сборник философских эссе. В издании собраны произведения итальянского писателя Джорджо Агамбена в русском переводе. Эти тексты кроме эссе «Что такое акт творения?» ранее не издавались. «Пасха в Египте» воспроизводит текст выступления на семинаре по переписке между Ингеборг Бахман и Паулем Целаном «Давай найдём слова.

Книга – дополненное и переработанное издание «Эстетической эпистемологии», опубликованной в 2015 году издательством Palmarium Academic Publishing (Saarbrücken) и Издательским домом «Академия» (Москва). В работе анализируются подходы к построению эстетической теории познания, проблематика соотношения эстетического и познавательного отношения к миру, рассматривается нестираемая данность эстетического в жизни познания, раскрывается, как эстетическое свойство познающего разума проявляется в кибернетике сознания и искусственного интеллекта.

Пушкин – это не только уникальный феномен русской литературы, но и непокоренная вершина всей мировой культуры. «Лучезарный, всеобъемлющий гений, светозарное преизбыточное творчество, – по характеристике Н. Бердяева, – величайшее явление русской гениальности». В своей юбилейной речи 8 июля 1880 года Достоевский предрекал нам завет: «Пушкин… унес с собой в гроб некую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем». С неиссякаемым чувством благоволения к человеку Пушкин раскрывает нам тайны нашей натуры, предостерегает от падений, вместе с нами слезы льет… И трудно представить себе более родственной, более близкой по духу интерпретации пушкинского наследия, этой вершины «золотого века» русской литературы, чем постижение его мыслителями «золотого века» русской философии (с конца XIX) – от Вл.

Авторы этой книги — ученые нашей страны, представляющие различные отрасли научных знаний: астрофизику, космологию, химию и др. Они рассказывают о новейших достижениях в естествознании, показывают, как научный поиск наносит удар за ударом по религиозной картине мира, не оставляя места для веры в бога — «творца и управителя Вселенной».Книга рассчитана на самые широкие круги читателей.
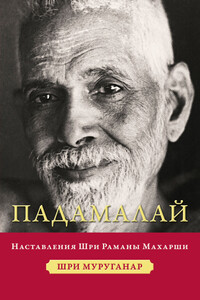
Книга содержит собрание устных наставлений Раманы Махарши (1879–1950) – наиболее почитаемого просветленного Учителя адвайты XX века, – а также поясняющие материалы, взятые из разных источников. Наряду с «Гуру вачака коваи» это собрание устных наставлений – наиболее глубокое и широкое изложение учения Раманы Махарши, записанное его учеником Муруганаром.Сам Муруганар публично признан Раманой Махарши как «упрочившийся в состоянии внутреннего Блаженства», поэтому его изложение без искажений передает суть и все тонкости наставлений великого Учителя.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.