Вырождение. Литература и психиатрия в русской культуре конца XIX века - [14]
В результате натуралистический текст расщепляется на разные уровни повествования: основополагающую, однородную базовую схему, воспроизводящую детерминистские «законы природы», – и повествовательный дискурс, раскрывающий многообразные проявления этого фундаментального «закона» на уровне рассказываемой истории[149]. Такая базовая структура свойственна и роману о вырождении: в данном случае диахроническая логика дегенеративной наследственности определяет как отбор событийных моментов для создания истории, так и придание им формы линейной временнóй последовательности, которой – согласно нарратологической модели «нарративного конституирования»[150] – обусловливается трансформация истории в повествование в любом повествовательном произведении. Роман о вырождении превращает аморфную совокупность носящих естественный, инстинктивный характер событий в эпическую смысловую линию, каузальность которой получает статус детерминистской закономерности[151].
Такая эпистемологическая базовая структура натуралистических романов о вырождении напоминает уже описанную повествовательную модель дегенерации в психиатрическом дискурсе, которая выполняет структурирующую функцию «усмирения» «буйного» патологического начала и обретает нарративную реализацию в историях болезней (гл. II.1). Однако у романов о вырождении есть и собственное диегетическое измерение, благодаря которому возможно многообразное варьирование нарративной базовой схемы. Этим они отличаются от психиатрических анализов, в которых научная достоверность гарантируется (навязчивым) повторением одной и той же повествовательной схемы. При этом наблюдается широкий спектр повествовательных возможностей, представляющий собой континуум между двумя полюсами: с одной стороны, приверженность эпической линейности закономерным образом приводит masterplot вырождения к разрыву наррации, обусловленному редукцией событийности; с другой стороны, роман о вырождении позволяет патологической девиации «просочиться» на поверхность текста, так что инсценировка все более сильных нарративных трансгрессий подрывает замкнутую форму повествовательного образца.
Как и в психиатрическом базовом нарративе, в романе о вырождении биологическая граница между нормой и патологией составляет центральную семантическую границу, а именно «трещину» (fêlure) в наследственности пораженной семьи. В семейном эпосе Золя функция трещины приписывается нервному расстройству Аделаиды Фук, «прародительницы» Ругон-Маккаров[152]. Вместе с тем эта начальная точка дегенерации представляет собой явную нарративную установку, так как с точки зрения науки о наследственности совершенно не очевидно, что «тетя Дида» должна считаться носительницей первого патологического отклонения в семье: еще «ее отец умер в сумасшедшем доме»[153]. Золя не пытается скрыть это противоречие, а скорее отрицает дискретность семьи, моделируя «начало без начала», «становление и гибель под знаком вечного возвращения дикого бытия»[154] жизни, нарративное обуздание которого, перенятое у науки, предстает во всей своей противоречивости[155].
Этой нарративной установкой обусловлена структурная необходимость в романе о вырождении аналептического повествования, знакомящего с отправной точкой семейной патологии в интра– или додиегетической форме. Как и в психиатрических историях болезней, «трещина» выступает протособытием, запускающим распространение болезненных отклонений и создающим фиктивный мир, где уже невозможно повторное пересечение границы между нормой и патологией. Поскольку действие романа о вырождении разворачивается согласно детерминистской схеме накопления патологий и прогрессирующей дегенерации, возможность изменения состояния героя-дегенерата оказывается под сомнением. «Перемещение персонажа через границу семантического поля», «значимое уклонение от нормы»[156], в котором Ю. Лотман усматривает суть нарративного события, в тексте о вырождении возможно лишь с оговорками. Прогрессирующее развитие фиктивного мира подразумевает здесь не какие-либо событийные превращения, а лишь постоянное подтверждение биологического порядка вещей. Порядок этот нередко отражается в дихотомической, антагонистической системе персонажей, в рамках которой вырождающимся, слабовольным героям противопоставлены здоровые и деятельные; тем самым оппозиция нормы и патологии приобретает наглядный характер[157].
Поэтому сюжетосложение многих романов о вырождении заключается в парадигматическом нанизывании все более тяжких патологических рецидивов, утрачивающих событийность по мере прогрессирования дегенерации[158]. Подобный бессобытийный застой приводит к разрыву нарративной ткани. Отрицательный телеологизм нередко влечет за собой все большее снижение «способности быть рассказанным» (Erzählbarkeit), так как каждый новый эпизод растянутой на несколько поколений истории упадка предстает, невзирая на изображение тех или иных событий, повторением одного и того же сюжетного образца. По мере неумолимого развития вырождения фиктивный мир все больше застывает в фаталистической неизменности, о которой можно поведать все меньше и меньше. Этот тип романа о вырождении отказывается от острого сюжетного драматизма в пользу «поэтики повтора»

В одном из своих эссе Н. К. Михайловский касается некоторых особенностей прозы М. Е. Салтыкова-Щедрина. Основным отличием стиля Щедрина от манеры Ф. М. Достоевского является, по мнению критика, фабульная редукция и «дедраматизация».В произведениях Достоевского самоубийства, убийства и другие преступления, занимающие центральное место в нарративе, подробно описываются и снабжаются «целым арсеналом кричащих эффектов», а у Щедрина те же самые события теряют присущий им драматизм.В более поздних исследованиях, посвященных творчеству Щедрина, также часто подчеркивается характерная для его произведений фабульная редукция.
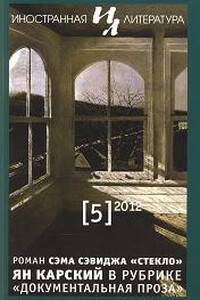
Статья Дмитрия Померанцева «Что в имени тебе моем?» — своего рода некролог Жозе Сарамаго и одновременно рецензия на два его романа («Каин» и «Книга имен»).

В первый раздел тома включены неизвестные художественные и публицистические тексты Достоевского, во втором разделе опубликованы дневники и воспоминания современников (например, дневник жены писателя А. Г. Достоевской), третий раздел составляет обширная публикация "Письма о Достоевском" (1837-1881), в четвёртом разделе помещены разыскания и сообщения (например, о надзоре за Достоевским, отразившемся в документах III Отделения), обзоры материалов, характеризующих влияние Достоевского на западноевропейскую литературу и театр, составляют пятый раздел.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.