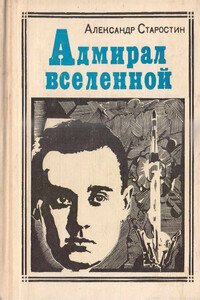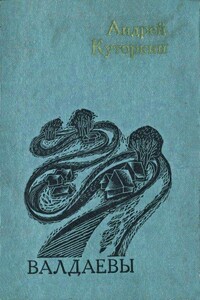— Вообще-то, — сказал Росанов, — я хотел сделать кульбит через стол. В знак протеста. Да передумал. Ладно. Ничего. Не бери в голову.
Ирженин кивнул, соглашаясь не брать в голову расшифровки «психологии».
— А что слышал о моих неприятностях и о том, как меня «послали»? — спросил Росанов. — И «три шестерки» надо повесить все-таки не на меня, а на «подлеца» Мишкина.
— Филиппыч сказал, что тебя посылают в школу высшей летной подготовки?
— Как? — переспросил Росанов, побледнев.
— Так. Будешь, пользуясь твоей терминологией, бороздить просторы пятого океана. То есть пойдешь на летную работу. Бортинженером.
Росанов почувствовал внезапную слабость.
— Надеюсь, на сей раз твое сердце не зарубят, — продолжал Ирженин, — да ты что, разве не знал этого?
— Не знал, — выдавил из себя Росанов.
И в этот момент его двойник, переполненный ликованием, подпрыгнул и закричал истошным голосом «ура», потом сделал кульбит вдоль стола и завертелся по полу как ужаленный.
— Ты что это побледнел? Или не хочется летать?
— Отчего же не хочется? — пробормотал Росанов, проткнул пробку в бутылку, налил в стакан и выпил. — Очень даже хочется.
— По-моему, Филиппыч приложил к этому руку. Он частенько прикладывает руку к каким-нибудь событиям… А знаешь что, поехали-ка к нему? Ты ведь у него ни разу не был…
Ирженин, не договорив, вдруг смутился. Росанов его смущения не заметил, всецело занятый собой и внезапно раскрывшимися перед ним перспективами. Пространство вдруг расширилось, и он увидел разом все, что когда-то мог вообразить: тундру, закаты, пальмы, яхты, волны, дельфинов, гиппопотамов. То есть не то чтоб увидел, а почувствовал вдруг весь мир и осознал его собранным в одну нестерпимо яркую точку, ярче тысячи солнц, которая оказалась в нем самом.
Ирженин о чем-то еще говорил и словно в чем-то извинялся, но Росанов не слышал его.
Наконец он пришел в себя и вдруг обнаружил за окном сразу четырех выбивателей ковров. Услышал городской транспорт, гудение крана на кухне и переспросил:
— Ты говоришь, к Филиппычу?
— Ну да.
— Ура! — крикнул Росанов и подпрыгнул. — Вперед, к Филиппычу! — но в следующее мгновение взял себя в руки и спросил: — Ну а сам-то ты где был?
Ирженин смутился.
— Я ж тебе говорил.
— На Диксоне?
Ирженин хмыкнул:
— Да ты не слышал ничего. На Айхоне. На дежурстве.
— Расскажи. Я из твоих рассказов составлял раньше «голубые сны». Но через некоторое время этому наступит конец.
Приведем рассказ Ирженина в несколько упрощенной записи Росанова (здесь совсем не упомянута врач Зоя, о которой Ирженин умолчал). Из дальнейшего изложения станет ясным, что и этот эпизод имеет отношение к нашему повествованию.
САНРЕЙС
(«Голубой сон»)
Мы дежурили на острове Айхон и делали что скажут, то есть летали куда пошлют.
Из окна гостиницы виден высокий берег, впаянные в снег серые камни и далеко внизу, в лагуне, на ледовом аэродроме, наш красный самолет.
Нам позвонили и сказали:
— Надо выполнить санрейс в Самоедскую.
Мы двинулись в диспетчерскую — изучать погоду по трассе, а бортмеханик Войтин на самолет — греть моторы и заправляться.
Когда из диспетчерской нас подвезли на гусеничном вездеходе к самолету, Войтин сидел на плоскости с заправочным пистолетом и напевал что-то неузнаваемое. Моторы были уже опробованы, слегка потрескивали, и над капотами дрожал нагретый воздух.
— Какая заправка? — прервал он свое несносное пение.
— Пятьсот пятьдесят, — ответил штурман.
— Что погода?
— На пределе: южный ветер и туман.
Над лагуной, отражаясь в синем льду, висели сразу три солнца — одно настоящее и два ложных, и от каждого тянуло холодом. В синем воздухе летели серебряные иглы замерзшего тумана, но уже чувствовалась весна. Началась подвижка льдов, океан кое-где вскрылся, и белесое небо впитало в себя цвет темной воды: над горизонтом пластались неаккуратно размазанные чернильные полосы.
Мы запустились и пошли на взлет. Под нами остались крошечные домики. Дым из труб поднимался вверх, дома были подвешены за эти дымные струи и дрожали в морозном мареве.
А потом пошла ледяная пустыня, только кое-где виднелись трещины, и от темной воды поднимался пар. Летели полчаса навстречу трем солнцам, и казалось, одно и то же место следует рядом с нами.
Рука радиста задрожала на ключе, напоминая движениями насекомое, попавшее на липучку.
— Самоедская закрылась. Там пурга, — сказал он.
— Придется пойти на запасной аэродром, на мыс Креста, — сказал я.
Мы уже входили в зону ледового аэродрома, как вдруг радист подскочил в своем кресле и выругался.
— Они тоже закрылись, — сказал он, — у них треснула полоса. Что делать? Куда садиться? Горный район.
— Пойдем в Алькуэму, — сказал я.
Штурман вытащил из-за голенища своего мехового сапога штурманскую линейку и стал считать.
— Не дотянем, — сказал он, — не дотянем до Алькуэмы. Горючки не хватит.
Я почувствовал, что все взоры обратились на меня — я поежился. Кабина наполнилась напряжением как чем-то материальным. Я старался не шевелиться. Потом медленно протянул руку и подвернул кремальеру автопилота. Я чувствовал, что все глядели, не дрожат ли у меня пальцы. Сейчас ни в коем случае нельзя делать лишних движений, и произносить лишних слов. Скажи я: «Братцы, я тут чего-то ни хрена не понимаю», — и весь экипаж бросит в дрожь.