Время сержанта Николаева - [14]
Они проходили мимо белого здания штаба. Николаев скомандовал “смирно” с равнением. На очищенном, как яичко, крыльце стоял в распахнутой шинели двухметровый и полнотелый военный, подполковник Архангельский, зам по тылу, и пыхтел огромной темной сигарой меж двух темных и огромных, растленных пальцев. Его лицо было врожденно лукавым, но солдат учебных рот он не трогал; он любил хозяйство, автопарк, свинарник, пищеблок, бесчисленные погреба, здесь он плавал как царь-рыба, буравил насквозь прапорщиков, “арабов” и “евреев” курировал по-царски. Его оплывшие в тумане опыта зрачки были самую малость подкатаны вверх, под толстые веки, они словно приподнимали их в середине, отчего абрис век был печально выгнут, то есть этот человек якобы подглядывал наверх, а видел грязную муть впереди себя. Говорят, такие глаза бывают у бабников. При взгляде на великого человека у Николаева возникало впечатление, что у великого человека в голове непрерывно роятся великие мысли, что мелкие мысли их не посещают. Воспоминание об Архангельском сопровождалось сдавленной улыбкой — столь преподобная это была фигура. Под окнами его кабинета на чистом снегу к концу дня валялось столько величественных окурков, сколько гильз после боя на позиции отделения. Николаев подумал: интересно, как такой грузный военный будет ползать на войне?
— Подай “вольно”, сержант, — вместе с дымом сказал Архангельский, скорее по топоту чувствуя приветствие и глядя далеко и вверх, на двух шаловливых прапорщиков-завскладами, за деревьями у полкового магазина жрущих заливное мармелада.
Взвод перешел КПП и пошел по белому пустырю перед лесом и по колхозной снежной, в прошлом году жирной земле. У забора части кукожился военный городок с офицерскими женами, колясками и подросшими детьми. Курсанты думали, что даже дети здесь приучены относиться к ним пренебрежительно.
На возвышении было прозрачно и ветрено. Зимой ослепляло не солнце, а упавший снег. В марте начнут обжигать длинные лучи, и тогда Министр, нехотя обмакнувший уже теперь перо в чернила, подпишет лучший в мире Приказ, Приказ об увольнении в запас, а еще через полтора месяца гражданин Николаев, расплатившийся за военную тайну со страной, спустится с этой лысой горы, покачивая полупустым чемоданом, и больше уже никогда не будет ненавидеть армию, наоборот, будет любить ее как лучшее, невещественное, целомудренное время, как тоску, равную силе влечения.
Притихшим шагом они вошли в глубокий сосновый бор, бурый, заснеженный, как волосы колдуньи — постаревшей, но мощной, умасленной любовницы дьявола. Просеку завалил долгий снегопад. Солдаты на полсапога утопали в бывшей колее и тягостно ожидали марша от командира-бегуна. Сосны не шумели, но испускали курортный запах. Федьке не понравилось, что курсанты нюхают, наслаждаются, не помнят службы. Он посмотрел на одобрение Николаева и крикнул:
— Вспышка с тыла!
С грубым воем взвод брякнулся в сугробы наповал; выли потому, что один ударял другого автоматом или сапогом.
— Встать!
И когда Федька еще раз пятнадцать повторил ту же тираду, столько же раз падающие и встающие поняли, что жизнь — полет вынужденный. Люди дышали тяжко, без интервалов, с притворством жалобщиков и ленивцев. Снег валился из ушей, орбит, ртов, из-под воротников, шапок, голенищ, с бушлатов и амуниции. Но снег был жарким на распаренных частях тел, и была, наверно, готовность ко всему в такую погоду. Ничего загадочного в Федькиной злости не было: не порядок, когда подчиненные, оттрубившие на полгода меньше, позволяют себе с замиранием сердца вдыхать вечный воздух, на равных. Социальную несправедливость Федька чувствовал печенкой. Федькины глаза бегали на его белобровой мордашке в разные стороны, как одуревшие от множества пищи и грязного простора тараканы. Роговица глаз от важности наливалась той же грязно-коричневой, тараканьей акварелью.
— Федор, давай-ка до фермы окольный бросок, и там окопаться. Я приду напрямик, — сказал Николаев.
— Бегом — марш! — Федор возликовал и, когда взвод отстранился до лесной развилки, добавил: Газы!
Юноши-ленивцы стали изгибаться, мычать и натягивать на свои румянцы противогазы. Николаев еще помнил вонючее нутро индивидуальных средств защиты, он помнил, как пел в противогазе революционные песни и бежал, срастаясь с прорезиненным воздухом. Это было позапрошлым летом, когда пот проникал с самого неба.
Геометрия деревьев, если смотреть сквозь них, была выдающейся графикой. От ее жанра у Николаева теперь начинала кружить голова. В другое время он не обращал внимания на так называемую природу, ходил беспечно, балагурил с друзьями, целовался с какой-нибудь девчонкой, хохотал, кидался снежками и т.д. Теперь то, что выражали на белом фоне миллионы веток, то, что испепеляло между ними, как в проемах частой гребенки, было чувствительней поцелуя, пирушки, скорости, загара. Воздух гулял во внутренних органах. Легкое и горло покрывались инеем. Здесь не было заводов. Небо висело рядом, увязало в колком частоколе сосен. Газеты, вспомнил Николаев, пишут о том, что человек, достигший превосходства над физическим состоянием, обретает такую легкость, такие ноги, такую ориентацию, которые позволяют ему проникать куда угодно, в другие измерения. Это звучало очень доказательно. Николаев готов был следовать этой теории, но он не мог понять, что конкретно для этого нужно преумножать. Сапоги Николаева попеременно утопали в снегу. Утопание в снегу — занятие физическое и философское, одинаково выматывающее. Прошлой зимой, когда во время учений приходилось целыми днями бороздить колхозные поля, покрытые снежно-рыхлой творожной массой, у Николаева болели мышцы стоп, особенно пятки, уязвимые места, словно побитые палками. При этом в голове возникали удивительные модели жизни. Он вспомнил и то, как в прошлом году, в крещенье, именно на этом тракте он и другие ловили “зеленого” солдата с веселой фамилией Жалейко, ударившегося в глупые бега. До побега этот жалкий Жалейко, в круглых металлических очечках, москвич, с мелкими прыщиками вокруг губ, с недоуменными глазками на пластилиновой шее без кадыка искал покровительства именно у Николаева, он думал, что они равны в духовном плане, что никого, кроме Николаева, у него не осталось. Но Николаев не мог за него заступиться — это противоречило жизни: они состояли в разных взводах — раз, и в другом взводе Жалейко чмырили — два, Николаев был сержант-первогодок — три, т.е. непосредственный ангел-хранитель казарменного равенства и братства, строить из себя заступника было губительно — четыре. Николаев знал, чем силен человек, — самооправданиями — пять. Жалейко не нашли, он сам сдался правосудию через два роковых месяца беспризорных скитаний по стране, опустивших его ниже всякой казармы. Его привозили в полк под конвоем матерых автоматчиков, и он всем неприятно улыбался, как христосик-убийца. Странно было видеть направленные на него дула, когда всю его горькую тщедушность можно было перешибить ниткой воды или земли. Правда, Жалейко пощадили или отвели от себя служебные неприятности: его признали тихим шизофреником, и он был выдворен на свободу с волчьим билетом. Конечно, Николаеву было неловко, может быть, потому, что он выбрал себе такую нерешительную жизнь.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
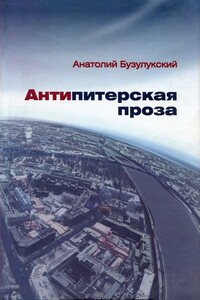
ББК 84(2Рос) Б90 Бузулукский А. Н. Антипитерская проза: роман, повести, рассказы. — СПб.: Изд-во СПбГУП, 2008. — 396 с. ISBN 978-5-7621-0395-4 В книгу современного российского писателя Анатолия Бузулукского вошли роман «Исчезновение», повести и рассказы последних лет, ранее публиковавшиеся в «толстых» литературных журналах Москвы и Петербурга. Вдумчивый читатель заметит, что проза, названная автором антипитерской, в действительности несет в себе основные черты подлинно петербургской прозы в классическом понимании этого слова.

Семейная драма, написанная жестко, откровенно, безвыходно, заставляющая вспомнить кинематограф Бергмана. Мужчина слишком молод и занимается карьерой, а женщина отчаянно хочет детей и уже томится этим желанием, уже разрушает их союз. Наконец любимый решается: боится потерять ее. И когда всё (но совсем непросто) получается, рождаются близнецы – раньше срока. Жизнь семьи, полная напряженного ожидания и измученных надежд, продолжается в больнице. Пока не случается страшное… Это пронзительная и откровенная книга о счастье – и бесконечности боли, и неотменимости вины.

Книга, которую вы держите в руках – о Любви, о величии человеческого духа, о самоотверженности в минуту опасности и о многом другом, что реально существует в нашей жизни. Читателей ждёт встреча с удивительным миром цирка, его жизнью, людьми, бытом. Писатель использовал рисунки с натуры. Здесь нет выдумки, а если и есть, то совсем немного. «Последняя лошадь» является своеобразным продолжением ранее написанной повести «Сердце в опилках». Действие происходит в конце восьмидесятых годов прошлого столетия. Основными героями повествования снова будут Пашка Жарких, Валентина, Захарыч и другие.
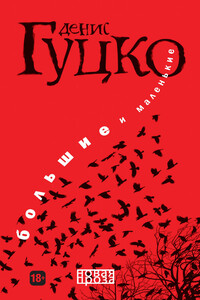
Рассказы букеровского лауреата Дениса Гуцко – яркая смесь юмора, иронии и пронзительных размышлений о человеческих отношениях, которые порой складываются парадоксальным образом. На что способна женщина, которая сквозь годы любит мужа своей сестры? Что ждет девочку, сбежавшую из дома к давно ушедшему из семьи отцу? О чем мечтает маленький ребенок неудавшегося писателя, играя с отцом на детской площадке? Начиная любить и жалеть одного героя, внезапно понимаешь, что жертва вовсе не он, а совсем другой, казавшийся палачом… автор постоянно переворачивает с ног на голову привычные поведенческие модели, заставляя нас лучше понимать мотивы чужих поступков и не обманываться насчет даже самых близких людей…

В литературной культуре, недостаточно знающей собственное прошлое, переполненной банальными и затертыми представлениями, чрезмерно увлеченной неосмысленным настоящим, отважная оригинальность Давенпорта, его эрудиция и историческое воображение неизменно поражают и вдохновляют. Washington Post Рассказы Давенпорта, полные интеллектуальных и эротичных, скрытых и явных поворотов, блистают, точно солнце в ветреный безоблачный день. New York Times Он проклинает прогресс и защищает пользу вечного возвращения со страстью, напоминающей Борхеса… Экзотично, эротично, потрясающе! Los Angeles Times Деликатесы Давенпорта — изысканные, элегантные, нежные — редчайшего типа: это произведения, не имеющие никаких аналогов. Village Voice.

Ольга Брейнингер родилась в Казахстане в 1987 году. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького и магистратуру Оксфордского университета. Живет в Бостоне (США), пишет докторскую диссертацию и преподает в Гарвардском университете. Публиковалась в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новое Литературное обозрение». Дебютный роман «В Советском Союзе не было аддерола» вызвал горячие споры и попал в лонг-листы премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга».Героиня романа – молодая женщина родом из СССР, докторант Гарварда, – участвует в «эксперименте века» по программированию личности.
