Воспоминания петербургского старожила. Том 2 - [42]
Словоохотливый Абрамка, может быть, еще бы больше повествовал, когда бы не заметил, что красноречию его нет места: я притворился спящим, чтоб пресечь этот поток квартирных сплетен, и он, приняв кажущееся за действительность, потушил бережно свечи мои и вышел, предоставляя мне видеть во сне побоище между Песоцким и Булгариным, в этот день торжественно совершившееся в книжном магазине и имевшее в результатах контузии, полученные первым, показавшиеся болтливому Абрамке значительнее того, что было в самом деле, и трехнедельную болезнь второго, заставившую его на время удалиться в свое разлюбезное Карлово[308], где черные повязки на голове и бандульеры[309] на руках объясняемы были всем каким-то небывалым несчастным падением из экипажа на мостовую. Si non e vero, e ben trovato!..[310] Как бы то ни было, но дружба между этими двумя господами, т. е. между Булгариным и Песоцким, с этого времени сильно поколебалась, несмотря на все старания Греча, с одной стороны, и книгопродавца Ольхина, с другой, примирить их. Впоследствии по наружности все стало благополучно; казалось, побоище было забыто, но эта наружность была в высшей степени обманчива; она походила на те цветущие луга, которые, как рассказывают путешественники, стелются словно зеленые ковры по кратеру Этны или Везувия.
Часов в десять утра следующего дня, когда я только что окончил мое утреннее чаепитие и присел было к письменному столу, чтобы пробежать лежавшие тут новые газеты, в дверь мою из коридора кто-то тихо постучал с вопросом: «Можно ли войти?» Я отворил дверь, запертую снутри на ключ, и передо мною явилась широкоплечая, сутулая, с головою, сильно подавшеюся вперед, личность, темно-розовая с длиннейшим носом, с ярко-огненно-курчавыми волосами и узкими оранжевыми ленточкою бакенбардами, шедшими прямо в рот, умильно улыбавшийся вместе со светло-голубыми маслеными, вперенными в меня глазами. То был тогдашний новый петербургский Ладвока, заменивший на время, на довольно, правда, короткое время, в столичной книготорговле предприимчиво-отчаянного Смирдина, ничего не смысливший и не понимавший в этой торговле книгопродавец Матвей Дмитриевич Ольхин из евреев, недавний еще курьер канцелярии министра финансов, щеголявший в мундирчике с бляхой на [нрзб.; тележонке?]. Никогда не имея удовольствия видеть у себя этого тогдашнего издателя «Библиотеки для чтения», сильно в ту пору прославленного Сенковским ежемесячно, а Булгариным почти ежедневно и непременно еженедельно в субботнем фельетоне, я не мог не изумиться при его неожиданном ко мне появлении.
– Я к вам на минуточку, – говорил преемник славы и несчастной предприимчивости Смирдина, усаживаясь на кресло в моей комнате. – Меня просил зайти к вам Иван Петрович. Ему необходимо побеседовать с вами и со мною; но ведь он болен, не встает с дивана, и вы очень его обязали бы, посетив его теперь же вместе со мною. У меня время рассчитано, как у англичан. Они ведь говорят, как мне неоднократно объяснял мой благотворитель Егор Францович[311]: «Время – капитал», и я с англичанами в этом вполне согласен. (Он вынул из жилетного кармана превосходный золотой хронометр и бросил взгляд на его циферблат.) Так ежели можете, Вл[адимир] П[етро]вич, уделить нам полчасика, пожалуйте со мною к бедному Песцу. Вы, конечно, знаете его вчерашнюю у меня в магазине схватку с Булгариным?
– С чего же мне знать, – удивленно спросил я, – почтеннейший Матвей Дмитриевич, все эти пререкания в нашей журналистике, когда они не в печати, как, к сожалению, это иногда бывает? Ведь я со всеми этими господами, печатающими и печатающимися, дерущимися и побиваемыми, никакой компании не вожу, и, право, хоть и под одной кровлей с Иваном Петровичем живу, а, исполняя ваше и его желание навестить его теперь, я, значит, сделаю ему ровно третий мой визит с самого начала моего с ним знакомства за год пред сим, когда он приехал в Земледельческое училище, где я тогда состоял на службе, приглашать меня принять участие в его только что родившемся тогда «Экономе».
– Ну а теперь, – улыбался Ольхин, снова взглядывая на часы, по-видимому, с намерением почаще показывать всем и каждому такую превосходную драгоценную вещь, – а теперь и он, и я, его соиздатель, приглашаем вас уговориться с нами, чтоб этот самый «Эконом», брошенный со вчерашнего вечера Фаддеем, был веден одним вами без всякого участия Булгарина, имя которого вместе с именем Песоцкого слетит с последней страницы каждого нумера, оставшись только на объявлениях перед подпиской, так как, вы ведь знаете, имя-то его пользуется решительным авторитетом в публике, особенно в публике провинциальной

Журналист и прозаик Владимир Петрович Бурнашев (1810-1888) пользовался в начале 1870-х годов широкой читательской популярностью. В своих мемуарах он рисовал живые картины бытовой, военной и литературной жизни второй четверти XIX века. Его воспоминания охватывают широкий круг людей – известных государственных и военных деятелей (М. М. Сперанский, Е. Ф. Канкрин, А. П. Ермолов, В. Г. Бибиков, С. М. Каменский и др.), писателей (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. И. Греч, Ф. В. Булгарин, О. И. Сенковский, А. С. Грибоедов и др.), также малоизвестных литераторов и журналистов.

Впервые в отечественной историографии предпринята попытка исследовать становление и деятельность в Северной Корее деспотической власти Ким Ир Сена — Ким Чен Ира, дать правдивую картину жизни северокорейского общества в «эпохудвух Кимов». Рассматривается внутренняя и внешняя политика «великого вождя» Ким Ир Сена и его сына «великого полководца» Ким Чен Ира, анализируются политическая система и политические институты современной КНДР. Основу исследования составили собранные авторами уникальные материалы о Ким Чен Ире, его отце Ким Ир Сене и их деятельности.Книга предназначена для тех, кто интересуется международными проблемами.
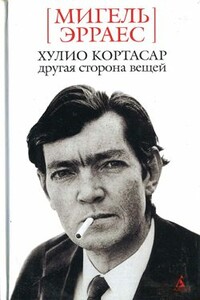
Издательство «Азбука-классика» представляет книгу об одном из крупнейших писателей XX века – Хулио Кортасаре, авторе знаменитых романов «Игра в классики», «Модель для сборки. 62». Это первое издание, в котором, кроме рассказа о жизни писателя, дается литературоведческий анализ его произведений, приводится огромное количество документальных материалов. Мигель Эрраес, известный испанский прозаик, знаток испано-язычной литературы, создал увлекательное повествование о жизни и творчестве Кортасара.

Наконец-то перед нами достоверная биография Кастанеды! Брак Карлоса с Маргарет официально длился 13 лет (I960-1973). Она больше, чем кто бы то ни было, знает о его молодых годах в Перу и США, о его работе над первыми книгами и щедро делится воспоминаниями, наблюдениями и фотографиями из личного альбома, драгоценными для каждого, кто серьезно интересуется магическим миром Кастанеды. Как ни трудно поверить, это не "бульварная" книга, написанная в погоне за быстрым долларом. 77-летняя Маргарет Кастанеда - очень интеллигентная и тактичная женщина.

«Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а чтобы будить чужую» – в этом афоризме выдающегося русского историка Василия Осиповича Ключевского выразилось его собственное научное кредо. Ключевский был замечательным лектором: чеканность его формулировок, интонационное богатство, лаконичность определений завораживали студентов. Литографии его лекций студенты зачитывали в буквальном смысле до дыр.«Исторические портреты» В.О.Ключевского – это блестящие характеристики русских князей, монархов, летописцев, священнослужителей, полководцев, дипломатов, святых, деятелей культуры.Издание основывается на знаменитом лекционном «Курсе русской истории», который уже более столетия демонстрирует научную глубину и художественную силу, подтверждает свою непреходящую ценность, поражает новизной и актуальностью.

«Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а чтобы будить чужую» – в этом афоризме выдающегося русского историка Василия Осиповича Ключевского выразилось его собственное научное кредо. Ключевский был замечательным лектором: чеканность его формулировок, интонационное богатство, лаконичность определений завораживали студентов. Литографии его лекций студенты зачитывали в буквальном смысле до дыр.«Исторические портреты» В.О.Ключевского – это блестящие характеристики русских князей, монархов, летописцев, священнослужителей, полководцев, дипломатов, святых, деятелей культуры.Издание основывается на знаменитом лекционном «Курсе русской истории», который уже более столетия демонстрирует научную глубину и художественную силу, подтверждает свою непреходящую ценность, поражает новизной и актуальностью.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад отдельной книгой в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют по сей день информационную и энергетико-психологическую ценность. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.
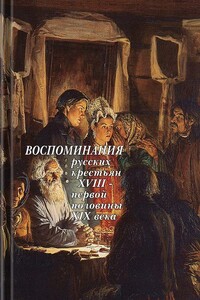
Сборник содержит воспоминания крестьян-мемуаристов конца XVIII — первой половины XIX века, позволяющие увидеть русскую жизнь того времени под необычным углом зрения и понять, о чем думали и к чему стремились представители наиболее многочисленного и наименее известного сословия русского общества. Это первая попытка собрать под одной обложкой воспоминания крестьян, причем часть мемуаров вообще печатается впервые, а остальные (за исключением двух) никогда не переиздавались.

Внук известного историка С. М. Соловьева, племянник не менее известного философа Вл. С. Соловьева, друг Андрея Белого и Александра Блока, Сергей Михайлович Соловьев (1885— 1942) и сам был талантливым поэтом и мыслителем. Во впервые публикуемых его «Воспоминаниях» ярко описаны детство и юность автора, его родственники и друзья, московский быт и интеллектуальная атмосфера конца XIX — начала XX века. Книга включает также его «Воспоминания об Александре Блоке».

Долгая и интересная жизнь Веры Александровны Флоренской (1900–1996), внучки священника, по времени совпала со всем ХХ столетием. В ее воспоминаниях отражены главные драматические события века в нашей стране: революция, Первая мировая война, довоенные годы, аресты, лагерь и ссылка, Вторая мировая, реабилитация, годы «застоя». Автор рассказывает о своих детских и юношеских годах, об учебе, о браке с Леонидом Яковлевичем Гинцбургом, впоследствии известном правоведе, об аресте Гинцбурга и его скитаниях по лагерям и о пребывании самой Флоренской в ссылке.

Любовь Васильевна Шапорина (1879–1967) – создательница первого в советской России театра марионеток, художница, переводчица. Впервые публикуемый ее дневник – явление уникальное среди отечественных дневников XX века. Он велся с 1920-х по 1960-е годы и не имеет себе равных как по продолжительности и тематическому охвату (политика, экономика, религия, быт города и деревни, блокада Ленинграда, политические репрессии, деятельность НКВД, литературная жизнь, музыка, живопись, театр и т. д.), так и по остроте критического отношения к советской власти.