Воспоминания петербургского старожила. Том 1 - [193]
Мне казалось в эти мгновения, что я все это вижу и слышу не наяву, как оно было, а под влиянием какого-то волшебного гашиша, и уж решительно не помню, какими судьбами рука какого-то весело и сладко улыбавшегося золотого камергера[1319] быстро схватила мою правую руку, соединив ее под локоток с ручкою одной какой-то далеко не молодой дамы или девицы с орденскими лентами и двумя золотыми шифрами на груди. Дама или девица эта повлекла меня к тому месту, против которого стоял мой визави со своею дамою, пропустившие первую фигуру, за долгим моим замедлением. Оказалось, что мне тогда велено дать в дамы одну из дежурных в этот день фрейлин, не отличавшуюся ни первою молодостью, ни красотою, но, по-видимому, довольно начитанную, которая в качестве старой девы не прочь была усладить себя разговором с юношей, каким я и точно еще тогда был, а еще более каким казался. Дама эта в блестящем бархатном придворном наряде оказалась фрейлина Шишкина, носившая как институтский (времен императрицы Марии Федоровны), так и фрейлинский шифры[1320] с орденскими бантами на груди. Эта госпожа Шишкина принадлежала к несносному легиону «синих чулков», и имя ее несколько раз проявлялось в тогдашней литературе, особенно в «Библиотеке для чтения»[1321], где Брамбеус двулично хвалил ее, всегда издеваясь ловко исподтишка. Разговор наш не вязался, тем более что моя дама вздумала мне толковать о дурном (по ее мнению) направлении романтизма, что уже изрядно оскомину тогда набило и в журналах, и в гостиных. В последней фигуре, которую в те времена танцовали с галопом, переменяя дам на лету, моя новая партнерка на быстром галопировании спросила обо мне Синицына, знакомого ей еще мальчиком по Воронежу, откуда она была родом. Синицын, по-видимому, желая пошкольничать, что с ним иногда случалось, как бы в отместку на те шутки, каким сам подвергался в школе от Лермонтова, наврал ей что-то обо мне, и она потом, раскланиваясь и прощаясь со мною, когда я ее отвел к тому месту около царской ложи, где было ее кресло, выразила мне удовольствие по поводу того, что танцовала эту кадриль с таким блестящим поэтом, хотя еще только начинающим, но носящим такую многозначительную поэтическую фамилию, напоминающую ночное светило, это солнце поэтов. Я терялся в догадках и никак не мог в толк взять, что бы в моей татарской фамилии могло быть что-либо общее с Луною. Я готов был спросить эту декорированную с орденскими лентами и не первой молодости даму, уж, чего доброго, не знает ли она по-татарски и не находит ли в словах, составляющих мою фамилию, таких, какие напоминают Луну, что тем более возможным мне казалось, потому что в гербе нашем есть мусульманская Луна, долу обращенная. Как бы то ни было, но вот меня, не умевшего никогда ни одного стиха написать мало-мальски путно, эта дама настойчиво пожаловала в замечательные поэты, как я узнал впоследствии, благодаря фантазии, посетившей доброго Синицына, сказать ей, будто псевдоним Трилунный, принадлежавший одному господину, кажется, ежели не ошибаюсь, Струйскому, есть моя настоящая фамилия.
Как только кончилась эта злосчастная для меня кадриль, я старался отыскать мою кузину около царской ложи. Здесь я вдруг наткнулся на громадного, тучного и величественного князя Василья Васильевича Долгорукова, превосходно носившего тип вельможи екатерининского века и отличавшегося в то время истинно боярско-олимпийскою красотою. Князь до этого вечера встречал меня, конечно, без всякого внимания, раза два на балах шталмейстера П. Н. Беклемишева, где он изредка и на часок времени показывался, особенно тогда, когда на этих вечерах бывал фельдмаршал князь Варшавский. Его сиятельство, взяв меня в сторону, счел нужным сказать мне несколько, впрочем, ласково и учтиво, внушительных слов, объяснив, в виде благодетельного назидания, что никогда не должно дозволять себе возвышать голос в присутствии членов августейшей фамилии и что я могу считать себя счастливым, живя в царствование такого монарха, который отличается столь рыцарским характером и таким высоким благодушием, так как мои громкие давешние восклицания в другом случае и при другом царствовании мне даром не прошли бы и могли бы, самое меньшее, иметь последствием удаление моей персоны с этого блестящего бала. Наставление это, кроткое, учтивое, величественное, произносимое с особенным эмфазом[1322] на чистейшем французском диалекте одним из первейших тогдашних вельмож, было заключено поистине самым забавным образом: «Vous avez sans doute entendu parler de l’histoire de Trichka?»

Журналист и прозаик Владимир Петрович Бурнашев (1810-1888) пользовался в начале 1870-х годов широкой читательской популярностью. В своих мемуарах он рисовал живые картины бытовой, военной и литературной жизни второй четверти XIX века. Его воспоминания охватывают широкий круг людей – известных государственных и военных деятелей (М. М. Сперанский, Е. Ф. Канкрин, А. П. Ермолов, В. Г. Бибиков, С. М. Каменский и др.), писателей (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. И. Греч, Ф. В. Булгарин, О. И. Сенковский, А. С. Грибоедов и др.), также малоизвестных литераторов и журналистов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Русского писателя Александра Грина (1880–1932) называют «рыцарем мечты». О том, что в человеке живет неистребимая потребность в мечте и воплощении этой мечты повествуют его лучшие произведения – «Алые паруса», «Бегущая по волнам», «Блистающий мир». Александр Гриневский (это настоящая фамилия писателя) долго искал себя: был матросом на пароходе, лесорубом, золотоискателем, театральным переписчиком, служил в армии, занимался революционной деятельностью. Был сослан, но бежал и, возвратившись в Петербург под чужим именем, занялся литературной деятельностью.

«Жизнь моя, очень подвижная и разнообразная, как благодаря случайностям, так и вследствие врожденного желания постоянно видеть все новое и новое, протекла среди таких различных обстановок и такого множества разнообразных людей, что отрывки из моих воспоминаний могут заинтересовать читателя…».

Творчество Исаака Бабеля притягивает пристальное внимание не одного поколения специалистов. Лаконичные фразы произведений, за которыми стоят часы, а порой и дни титанической работы автора, их эмоциональность и драматизм до сих пор тревожат сердца и умы читателей. В своей уникальной работе исследователь Давид Розенсон рассматривает феномен личности Бабеля и его альтер-эго Лютова. Где заканчивается бабелевский дневник двадцатых годов и начинаются рассказы его персонажа Кирилла Лютова? Автобиографично ли творчество писателя? Как проявляется в его мировоззрении и работах еврейская тема, ее образность и символика? Кроме того, впервые на русском языке здесь представлен и проанализирован материал по следующим темам: как воспринимали Бабеля его современники в Палестине; что писала о нем в 20-х—30-х годах XX века ивритоязычная пресса; какое влияние оказал Исаак Бабель на современную израильскую литературу.

Туве Янссон — не только мама Муми-тролля, но и автор множества картин и иллюстраций, повестей и рассказов, песен и сценариев. Ее книги читают во всем мире, более чем на сорока языках. Туула Карьялайнен провела огромную исследовательскую работу и написала удивительную, прекрасно иллюстрированную биографию, в которой длинная и яркая жизнь Туве Янссон вплетена в историю XX века. Проведя огромную исследовательскую работу, Туула Карьялайнен написала большую и очень интересную книгу обо всем и обо всех, кого Туве Янссон любила в своей жизни.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Долгая и интересная жизнь Веры Александровны Флоренской (1900–1996), внучки священника, по времени совпала со всем ХХ столетием. В ее воспоминаниях отражены главные драматические события века в нашей стране: революция, Первая мировая война, довоенные годы, аресты, лагерь и ссылка, Вторая мировая, реабилитация, годы «застоя». Автор рассказывает о своих детских и юношеских годах, об учебе, о браке с Леонидом Яковлевичем Гинцбургом, впоследствии известном правоведе, об аресте Гинцбурга и его скитаниях по лагерям и о пребывании самой Флоренской в ссылке.

Внук известного историка С. М. Соловьева, племянник не менее известного философа Вл. С. Соловьева, друг Андрея Белого и Александра Блока, Сергей Михайлович Соловьев (1885— 1942) и сам был талантливым поэтом и мыслителем. Во впервые публикуемых его «Воспоминаниях» ярко описаны детство и юность автора, его родственники и друзья, московский быт и интеллектуальная атмосфера конца XIX — начала XX века. Книга включает также его «Воспоминания об Александре Блоке».
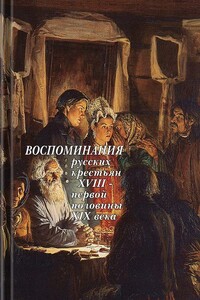
Сборник содержит воспоминания крестьян-мемуаристов конца XVIII — первой половины XIX века, позволяющие увидеть русскую жизнь того времени под необычным углом зрения и понять, о чем думали и к чему стремились представители наиболее многочисленного и наименее известного сословия русского общества. Это первая попытка собрать под одной обложкой воспоминания крестьян, причем часть мемуаров вообще печатается впервые, а остальные (за исключением двух) никогда не переиздавались.

Любовь Васильевна Шапорина (1879–1967) – создательница первого в советской России театра марионеток, художница, переводчица. Впервые публикуемый ее дневник – явление уникальное среди отечественных дневников XX века. Он велся с 1920-х по 1960-е годы и не имеет себе равных как по продолжительности и тематическому охвату (политика, экономика, религия, быт города и деревни, блокада Ленинграда, политические репрессии, деятельность НКВД, литературная жизнь, музыка, живопись, театр и т. д.), так и по остроте критического отношения к советской власти.