Воспоминания петербургского старожила. Том 1 - [116]
До половины тридцатых годов, когда министр финансов переселялся на летний сезон из города на дачу в Лесной корпус, тогда состоявший в его ведении вместе со всеми государственными имуществами, составлявшими часть Министерства финансов, граф Егор Францович лето всегда проводил в Летнем саду, в так называемом Летнем дворце императора Петра Первого. Здесь-то в Летнем саду в конце двадцатых и начале тридцатых годов посетители сада в различные часы дня, часто очень рано утром или поздно вечером, в разных аллеях встречали графа Канкрина, большею частью в одной и той же позе с руками, закинутыми за спину. Зимою набережная Фонтанки, редко Невы, а иногда Невский проспект были местами прогулок графа Егора Францовича. Прогуливаясь, он отдыхал от дел государственных, сопряженных с головоломною работою и упорною, утомительною усидчивостью. Впрочем, и во время этих одиночных прогулок Канкрин не мог оставаться праздным и превратиться в уличного бродягу, он и в это время не расставался со своими думами и глубокими соображениями. Поэтому он почти никогда не отвечал ни на чьи поклоны, а отдававшим честь его наружным знакам генеральства иногда отвечал кивками, очень редко прикладыванием пальцев правой или левой даже руки к переднему углу треугольной шляпы. Летом или зимою до начала сороковых годов, когда носились еще треугольные шляпы, мы, старожилы петербургские, помним Канкрина всегда в шляпе необычайно высокой, неуклюжей, с белым, далеко не безукоризненной свежести султаном из перьев, то очень мелких и коротких, то до того длинных, что они, падая с тульи, касались его воротника сюртука или шинели. Но когда в 1842, кажется, году все военное сословие России облеклось в каски[835] с совершенным изгнанием треугольной шляпы, он стал являться в каске, однако почти всегда без перистого султана. Эта каска, сама по себе довольно грациозный и воинственный головной убор, сидевшая, однако, на его мыслящей голове вроде, как говорится, седла на корове, была не тяжелее обыкновенной фуражки, так как граф заказал ее в магазине офицерских вещей Лихачева по своему собственному своеобразному рецепту: она была сшита из тонкого сукна и самой нежной лакированной клеенки, металлический же прибор был из легонькой латуни. Зимою каска эта была на вате и снабжалась наушниками. Слышали мы, что эта оригинальная каска старика министра была предметом разных разговоров и толков между теми из членов Государственного совета, которые состояли в военных чинах и носили военную форму. Этим господам Канкрин любил с некоторым увлечением объяснять достоинства и прелести каски своей, или «канкринской», как ее называли.
В городе в ту пору рассказывалось, что когда Канкрин бывал с докладом в собственном кабинете императора Николая Павловича в Зимнем дворце, то обыкновенно клал на ближайшее к себе кресло эту каску, на это время всегда снабженную белым перистым султаном из мельчайших и тончайших перышков, а иногда, напротив, необыкновенно длинным, перья которого ложились с кресла на паркет. Шутка, всегда безобидная для ее жертвы, как известно, составляла отличительную черту характера императора Николая Павловича, когда он находился в хорошем расположении духа, хотя в публике большею частью он, однако, казался всегда таким если не мрачным, то серьезным и не способным много смеяться. У себя же дома в коротком кружке государь, напротив, большею частью бывал весел и любил, чтоб около него не было угрюмых и в особенности с выражением страданий лиц. Со всем тем, однако, он так любил Канкрина, что пасмурный и отчасти действительно какой-то страдательный вид тогда уже полуслепого великого русского финансиста не производил на его величество дурного впечатления, причем он нередко старался так пошутить со своим, можно сказать, гениальным докладчиком, чтобы и тот невольно рассмеялся, и тогда Николай Павлович при первой встрече с императрицею Александрою Федоровною, умевшею, как в один голос все тогда рассказывали, мастерски и превосходно прилаживаться по всем фазисам характера и нрава своего державного супруга, непременно с видом искусственного, напускного восхищения объявлял, что он сегодня одержал огромную победу, заставив Канкрина не только улыбнуться, но даже засмеяться. Разумеется, при всей своей сосредоточенной серьезности, при всей неподдельно искренней углубленности в дела государственные, при всем даже наружном неумении царедворствовать, Канкрин, естественно, не мог в течение стольких лет посещения царского кабинета не поддаться придворному элементу и, замечая, как его величеству потешны победы над его считавшеюся непобедимою серьезностью, иногда платил дань светской вежливости, с которою, впрочем, обыкновенно он так мало был знаком, и тогда сам смеялся шутке государя. Эти шутки преимущественно имели целью каску Канкрина, которую великий князь Михаил Павлович называл так: «Каска пересмотренного и исправленного графом Канкриным издания». Государь иногда надевал эту каску себе на голову, иногда уговаривал Канкрина сделать то же, иногда мял эту чересчур мягкую каску и превращал ее в блин своими могучими руками. Раз (много об этом говорили в ту пору в городе) каска эта была до того смята, что уже не представилось никакой возможности надеть ее, и этот случай послужил к тому, что из гардероба государя вытребована была одна из собственных его фуражек с красным генеральским околышем. И этот случай послужил к тому, что графу Канкрину разрешено было «не в пример другим» носить фуражку, какою он и заменил неудобную для него каску. Впрочем, и эта фуражка, необыкновенно высокая, отличалась от всех других какою-то странною киверообразною высотою, дававшей ей вид совершенно своеобразный и далеко не грациозный, а очень странный, что не помешало, однако, некоторым эксцентрикам из числа военных генералов принять эту высокую фуражку и явиться в ней в Царском Селе, где, как известно, ни шляпы в свое время, ни каски впоследствии не полагались и не употреблялись.

Журналист и прозаик Владимир Петрович Бурнашев (1810-1888) пользовался в начале 1870-х годов широкой читательской популярностью. В своих мемуарах он рисовал живые картины бытовой, военной и литературной жизни второй четверти XIX века. Его воспоминания охватывают широкий круг людей – известных государственных и военных деятелей (М. М. Сперанский, Е. Ф. Канкрин, А. П. Ермолов, В. Г. Бибиков, С. М. Каменский и др.), писателей (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. И. Греч, Ф. В. Булгарин, О. И. Сенковский, А. С. Грибоедов и др.), также малоизвестных литераторов и журналистов.

«Гражданская оборона» — культурный феномен. Сплав философии и необузданной первобытности. Синоним нонконформизма и непрекращающихся духовных поисков. Борьба и самопожертвование. Эта книга о истоках появления «ГО», эволюции, людях и событиях, так или иначе связанных с группой. Биография «ГО», несущаяся «сквозь огни, сквозь леса... ...со скоростью мира».

В этой книге мы решили вспомнить и рассказать о ходе русско-японской войны на море: о героизме русских моряков, о подвигах многих боевых кораблей, об успешных действиях отряда владивостокских крейсеров, о беспримерном походе 2-й Тихоокеанской эскадры и о ее трагической, но также героической гибели в Цусимском сражении.

От редакции журнала «Знамя»В свое время журнал «Знамя» впервые в России опубликовал «Воспоминания» Андрея Дмитриевича Сахарова (1990, №№ 10—12, 1991, №№ 1—5). Сейчас мы вновь обращаемся к его наследию.Роман-документ — такой необычный жанр сложился после расшифровки Е.Г. Боннэр дневниковых тетрадей А.Д. Сахарова, охватывающих период с 1977 по 1989 годы. Записи эти потребовали уточнений, дополнений и комментариев, осуществленных Еленой Георгиевной. Мы печатаем журнальный вариант вводной главы к Дневникам.***РЖ: Раздел книги, обозначенный в издании заголовком «До дневников», отдельно публиковался в «Знамени», но в тексте есть некоторые отличия.

Летом 1941 года в составе Вермахта и войск СС в Советский Союз вторглись так называемые национальные легионы фюрера — десятки тысяч голландских, датских, норвежских, шведских, бельгийских и французских freiwiligen (добровольцев), одурманенных нацистской пропагандой, решивших принять участие в «крестовом походе против коммунизма».Среди них был и автор этой книги, голландец Хендрик Фертен, добровольно вступивший в войска СС и воевавший на Восточном фронте — сначала в 5-й танковой дивизии СС «Викинг», затем в голландском полку СС «Бесслейн» — с 1941 года и до последних дней войны (гарнизон крепости Бреслау, в обороне которой участвовал Фертен, сложил оружие лишь 6 мая 1941 года)
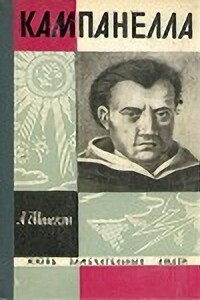
Книга рассказывает об ученом, поэте и борце за освобождение Италии Томмазо Кампанелле. Выступая против схоластики, он еще в юности привлек к себе внимание инквизиторов. У него выкрадывают рукописи, несколько раз его арестовывают, подолгу держат в темницах. Побег из тюрьмы заканчивается неудачей.Выйдя на свободу, Кампанелла готовит в Калабрии восстание против испанцев. Он мечтает провозгласить республику, где не будет частной собственности, и все люди заживут общиной. Изменники выдают его планы властям. И снова тюрьма. Искалеченный пыткой Томмазо, тайком от надзирателей, пишет "Город Солнца".
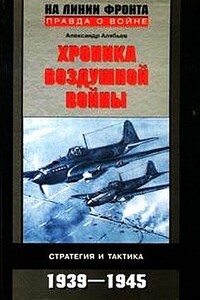
Труд журналиста-международника А.Алябьева - не только история Второй мировой войны, но и экскурс в историю развития военной авиации за этот период. Автор привлекает огромный документальный материал: официальные сообщения правительств, информационных агентств, радио и прессы, предоставляя возможность сравнить точку зрения воюющих сторон на одни и те же события. Приводит выдержки из приказов, инструкций, дневников и воспоминаний офицеров командного состава и пилотов, выполнивших боевые задания.
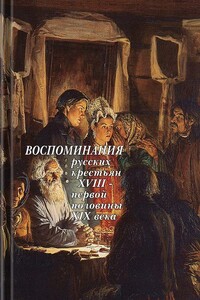
Сборник содержит воспоминания крестьян-мемуаристов конца XVIII — первой половины XIX века, позволяющие увидеть русскую жизнь того времени под необычным углом зрения и понять, о чем думали и к чему стремились представители наиболее многочисленного и наименее известного сословия русского общества. Это первая попытка собрать под одной обложкой воспоминания крестьян, причем часть мемуаров вообще печатается впервые, а остальные (за исключением двух) никогда не переиздавались.

Внук известного историка С. М. Соловьева, племянник не менее известного философа Вл. С. Соловьева, друг Андрея Белого и Александра Блока, Сергей Михайлович Соловьев (1885— 1942) и сам был талантливым поэтом и мыслителем. Во впервые публикуемых его «Воспоминаниях» ярко описаны детство и юность автора, его родственники и друзья, московский быт и интеллектуальная атмосфера конца XIX — начала XX века. Книга включает также его «Воспоминания об Александре Блоке».

Долгая и интересная жизнь Веры Александровны Флоренской (1900–1996), внучки священника, по времени совпала со всем ХХ столетием. В ее воспоминаниях отражены главные драматические события века в нашей стране: революция, Первая мировая война, довоенные годы, аресты, лагерь и ссылка, Вторая мировая, реабилитация, годы «застоя». Автор рассказывает о своих детских и юношеских годах, об учебе, о браке с Леонидом Яковлевичем Гинцбургом, впоследствии известном правоведе, об аресте Гинцбурга и его скитаниях по лагерям и о пребывании самой Флоренской в ссылке.

Любовь Васильевна Шапорина (1879–1967) – создательница первого в советской России театра марионеток, художница, переводчица. Впервые публикуемый ее дневник – явление уникальное среди отечественных дневников XX века. Он велся с 1920-х по 1960-е годы и не имеет себе равных как по продолжительности и тематическому охвату (политика, экономика, религия, быт города и деревни, блокада Ленинграда, политические репрессии, деятельность НКВД, литературная жизнь, музыка, живопись, театр и т. д.), так и по остроте критического отношения к советской власти.