Воронежские корабли - [9]
И посадские тоже вместе с Ларькой кричали:
– Так его, сукинова сына!
Выходило как бы нападение.
Тогда солдаты взяли ружья наперевес и загородили кавалера.
Но передние уже разглядели, что немец живой и никто его не закапывает, а просто он в ямку схоронился от ветра. И что он малюет.
Старшой солдат сказал:
– Осади.
Но воронежских жителей уже не злоба, а любопытство разбирало: чего там немец малюет?
– Нешто и поглядеть нельзя? – сказала расторопная бабенка в новом, простроченном красной и зеленой ниткой полушубке.
– Я те погляжу, – нахмурился солдат.
Ларька сердито плюнул и зашагал прочь.
Когда он ушел, у Васятки от души отлегло. Так страшно кричал дьячок, так грозились кулаками посадские, что он подумал: убьют немца. Очень просто убьют, как вчерашней ночью в лесу мужики драгуна убили.
Но страшный дьячок ушел, охранные солдаты сурово стояли с ружьями наперевес, кавалер спокойно сидел в яме и рисовал, насвистывая веселую песенку.
И Васятка сообразил, что тут не лес и не ночь, а город Воронеж, где вон сколько солдат и даже сам царь. А посадские, похоже, не с дурным пришли, а просто так, поглядеть.
Немец же рисовал ландшафт. Теперь в яме ему ветер был нипочем. Уже вся городская стена – с башнями, с воротами, с церковными маковками – была на бумажном листе. Бугры с посадскими домишками. Даль лесная, где из-за сизой гущи деревьев поблескивала золотая луковица шатровой колоколенки Акатова монастыря…
Кавалер отстранил лист, прищурившись, поглядел, посвистел. И принялся чертить нижнюю часть: штабеля леса, кузни, хоромы ижорского герцога, адмиралтейский двор, немецкую слободку, дубовую рощу, речку с двумя рукавами, корабли на стапелях…
И так весело, бойко черкал кавалеров карандашик, уверенно нанося на бумагу увиденное, что и Васятке захотелось порисовать.
Он снял колпак, расправил испорченный лист и, порывшись в кармане, достал уголек. И, приладившись на корточках, принялся и себе чертить.
Сперва он рисовал то же, что и кавалер: городские степы, церковные маковки. От башни к башне резво бежал Васяткин уголек. И так добежал до края листа.
«Вот те на! – удивился Васятка. – Еще и половины не нарисовал, а бумага вся… Видно, опять снова-здорова придется начинать. Да помельче, чтоб уместилось…»
Но только прикинул глазом бумажный лист – не промахнуться бы, – как услышал громкий собачий лай. И, обернувшись, увидел: собачонка кидается на посадского мужика. А тот ее нарочно палкой дразнит, и до того додразнил, остервенил, что уже и сам не рад: крутится, бороденкой трясет, шубные полы подбирает, чтоб не порвала, проклятая!
Васятке чудно стало. Забыв про городские стены, принялся набрасывать мужика, как он топчется, оробев, да в страхе полы подбирает.
И все чудесно перешло на бумагу – и смешно задранная мужикова шуба, и высокая, сползшая набок, заячья шапка, и лапти, и козлиная борода, и суковатая палка в руке, и остервенившаяся собачонка.
А уж как приятно, хорошо было рисовать на гладкой белой бумаге! Уголек сам бежал, ни за что не цепляясь – держи только! Какое же сравнение с амбарной дверью или корявой стеной избы, на которых он рисовал дома.
Рисует Васятка и смеется от радости, что хороша бумага и что все на нее, как хотелось, перешло: чудной мужик, чудная собачонка. Забыл, что немцу продан, про родимый дом забыл, про Пегашку, про ночную баталию – про все позабыл. Рисует, смеется.
А кавалер тем временем, кончив свой ландшафт, вылезает из ямы. Изумленно подняв брови, становится за спиной у Васятки. Глядит, хитро подмигивает солдатам, манит их пальчиком, чтоб подошли поглядели.
И те подходят и вместе с кавалером дивятся Васяткиной прыти.
И кавалер хохочет, кидается обнимать мальчонку, лопоча:
– О-ля-ля! Ду ист кюнстлер, малшик![5]
И солдаты негромко, добродушно, удивленные, смеются.
Глава восьмая.
про гусиный перелет, про мертвяков, про торжественный спуск корабля «Пантелеймон»
Куда-то по синему небу плыли розовые облака, куда-то гуси, утки летели.
Где-то далеко за рекой расцветали утренние погожие зори. И, чуть слышимые, по-весеннему перекликались деревенские петухи.
Не к Углянцу ли плыли облака и летели гуси? Не над родимым ли садом загоралась заря? Не родительский ли петух перекликался с соседским?
Ох, нет!
Вот уж на вторую седмицу пошло – чужая сторона, шум, крик, стук кузнечных молотов, нерусская речь, дым от смоляных варниц…
Вторую седмицу таскает Васятка шкатулку и стульчик за неугомонным кавалером Корнелем.
Они лазят по глинистым Чижовским буграм, а не то – тащатся в лес, за Акатову обитель.
Три солдата тоже ходят за ними, стерегут кавалера.
И собачонка бегает, привязалась, не отстает. Ей ужо и прозвище дали: Куцка.
Солнышко шибко пошло на лето, птичья перекличка по утрам в адмиралтейской роще.
А все ж таки – не дома. Постылая, чужая сторона. Ни матушки родимой, ни духовитых ржаных пампушечек, ни теплого сумрака на обсмыганных кирпичах жарко натопленной печки… эх!
Ночевал Васятка в преславном и предивном дворце ижорского герцога – в темном чуланчике под лестницей.
Кавалеру Корнелю наверху были отведены палаты. Васятка находился при кавалере, – куда ж его было деть, как не под лестницу.

Уголовный роман замечательных воронежских писателей В. Кораблинова и Ю. Гончарова.«… Вскоре им попались навстречу ребятишки. Они шли с мешком – собирать желуди для свиней, но, увидев пойманное чудовище, позабыли про дело и побежали следом. Затем к шествию присоединились какие-то женщины, возвращавшиеся из магазина в лесной поселок, затем совхозные лесорубы, Сигизмунд с Ермолаем и Дуськой, – словом, при входе в село Жорка и его полонянин были окружены уже довольно многолюдной толпой, изумленно и злобно разглядывавшей дикого человека, как все решили, убийцу учителя Извалова.
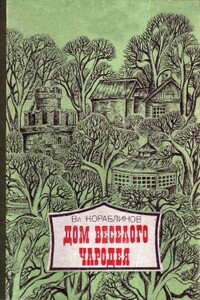
«… Сколько же было отпущено этому человеку!Шумными овациями его встречали в Париже, в Берлине, в Мадриде, в Токио. Его портреты – самые разнообразные – в ярких клоунских блестках, в легких костюмах из чесучи, в строгом сюртуке со снежно-белым пластроном, с массой орденских звезд (бухарского эмира, персидская, французская Академии искусств), с россыпью медалей и жетонов на лацканах… В гриме, а чаще (последние годы исключительно) без грима: открытое смеющееся смуглое лицо, точеный, с горбинкой нос, темные шелковистые усы с изящнейшими колечками, небрежно взбитая над прекрасным лбом прическа…Тысячи самых забавных, невероятных историй – легенд, анекдотов, пестрые столбцы газетной трескотни – всюду, где бы ни появлялся, неизменно сопровождали его триумфальное шествие, увеличивали и без того огромную славу «короля смеха».

«…– Не просто пожар, не просто! Это явный поджог, чтобы замаскировать убийство! Погиб Афанасий Трифоныч Мязин…– Кто?! – Костя сбросил с себя простыню и сел на диване.– Мязин, изобретатель…– Что ты говоришь? Не может быть! – вскричал Костя, хотя постоянно твердил, что такую фразу следователь должен забыть: возможно все, даже самое невероятное, фантастическое.– Представь! И как тонко подстроено! Выглядит совсем как несчастный случай – будто бы дом загорелся по вине самого Мязина, изнутри, а он не смог выбраться, задохнулся в дыму.
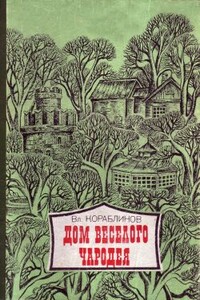
«… Валиади глядел в черноту осенней ночи, думал.Итак?Итак, что же будет дальше? Лизе станет лучше, и тогда… Но станет ли – вот вопрос. Сегодня, копая яму, упаковывая картины, он то и дело заглядывал к ней, и все было то же: короткая утренняя передышка сменилась снова жестоким жаром.Так есть ли смысл ждать улучшения? Разумно ли откладывать отъезд? Что толку в Лизином выздоровлении, если город к тому времени будет сдан, если они окажутся в неволе? А ведь спокойно-то рассудить – не все ли равно, лежать Лизе дома или в вагоне? Ну, разумеется, там и духота, и тряска, и сквозняки – все это очень плохо, но… рабство-то ведь еще хуже! Конечно, немцы, возможно, и не причинят ему зла: как-никак, он художник, кюнстлер, так сказать… «Экой дурень! – тут же обругал себя Валиади. – Ведь придумал же: кюнстлер! Никакой ты, брат, не кюнстлер, ты – русский художник, и этого забывать не следует ни при каких, пусть даже самых тяжелых, обстоятельствах!»Итак? …»Повесть также издавалась под названием «Русский художник».
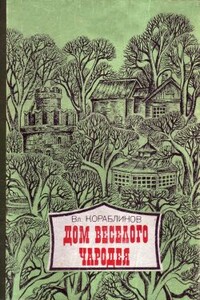
«… Но среди девичьей пестроты одна сразу же привлекла его внимание: скромна, молчалива, и ведь не красавица, а взглянешь – и глаз не оторвешь. Она не ахала, не жеманничала, не докучала просьбами черкнуть в альбом. Как-то завязался разговор о поэзии, девицы восторгались любимыми стихотворцами: были названы имена Бенедиктова, Кукольника, Жуковского.Она сказала:– Некрасов…– Ох, эта Натали! – возмущенно защебетали девицы. – Вечно не как все, с какими-то выдумками… Какая же это поэзия – Некрасов!– Браво! – воскликнул Никитин. – Браво, Наталья Антоновна! Я рад, что наши с вами вкусы совпадают…Она взглянула на него и улыбнулась.
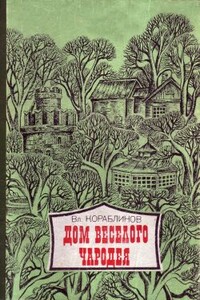
«… Со стародавних времен прижился у нас такой неписаный закон, что гениям все дозволено. Это, мол, личности исключительные, у них и психика особенная, и в силу этой «особенной» психики им и надлежит прощать то, что другим ни в коем случае не прощается.Когда иной раз заспорят на эту тему, то защитники неприкосновенности гениев обязательно приводят в пример анекдоты из жизни разных знаменитых людей. Очень любопытно, что большая часть подобных анекдотов связана с пьяными похождениями знаменитостей или какими-нибудь эксцентричными поступками, зачастую граничащими с обыкновенным хулиганством.И вот мне вспоминается одна простенькая история, в которой, правда, нет гениев в общепринятом смысле, а все обыкновенные люди.
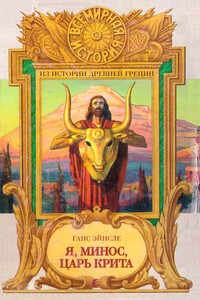
Каким был легендарный властитель Крита, мудрый законодатель, строитель городов и кораблей, силу которого признавала вся Эллада? Об этом в своём романе «Я, Минос, царь Крита» размышляет современный немецкий писатель Ганс Эйнсле.
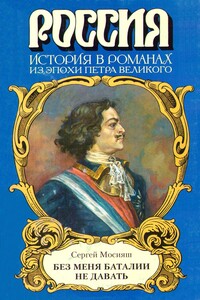
"Пётр был великий хозяин, лучше всего понимавший экономические интересы, более всего чуткий к источникам государственного богатства. Подобными хозяевами были и его предшественники, цари старой и новой династии, но те были хозяева-сидни, белоручки, привыкшие хозяйничать чужими руками, а из Петра вышел подвижной хозяин-чернорабочий, самоучка, царь-мастеровой".В.О. КлючевскийВ своём новом романе Сергей Мосияш показывает Петра I в самые значительные периоды его жизни: во время поездки молодого русского царя за границу за знаниями и Полтавской битвы, где во всём блеске проявился его полководческий талант.
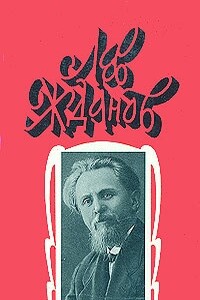
Среди исторических романистов начала XIX века не было имени популярней, чем Лев Жданов (1864–1951). Большинство его книг посвящено малоизвестным страницам истории России. В шеститомное собрание сочинений писателя вошли его лучшие исторические романы — хроники и повести. Почти все не издавались более восьмидесяти лет. В шестой том вошли романы — хроники «Осажденная Варшава», «Сгибла Польша! (Finis Poloniae!)» и повесть «Порча».

Роман «Дом Черновых» охватывает период в четверть века, с 90-х годов XIX века и заканчивается Великой Октябрьской социалистической революцией и первыми годами жизни Советской России. Его действие развивается в Поволжье, Петербурге, Киеве, Крыму, за границей. Роман охватывает события, связанные с 1905 годом, с войной 1914 года, Октябрьской революцией и гражданской войной. Автор рассказывает о жизни различных классов и групп, об их отношении к историческим событиям. Большая социальная тема, размах событий и огромный материал определили и жанровую форму — Скиталец обратился к большой «всеобъемлющей» жанровой форме, к роману.

В книгу вошли два романа ленинградского прозаика В. Бакинского. «История четырех братьев» охватывает пятилетие с 1916 по 1921 год. Главная тема — становление личности четырех мальчиков из бедной пролетарской семьи в период революции и гражданской войны в Поволжье. Важный мотив этого произведения — история любви Ильи Гуляева и Верочки, дочери учителя. Роман «Годы сомнений и страстей» посвящен кавказскому периоду жизни Л. Н. Толстого (1851—1853 гг.). На Кавказе Толстой добивается зачисления на военную службу, принимает участие в зимних походах русской армии.

В романе Амирана и Валентины Перельман продолжается развитие идей таких шедевров классики как «Божественная комедия» Данте, «Фауст» Гете, «Мастер и Маргарита» Булгакова.Первая книга трилогии «На переломе» – это оригинальная попытка осмысления влияния перемен эпохи крушения Советского Союза на картину миру главных героев.Каждый роман трилогии посвящен своему отрезку времени: цивилизационному излому в результате бума XX века, осмыслению новых реалий XXI века, попытке прогноза развития человечества за горизонтом современности.Роман написан легким ироничным языком.