Волки - [3]
Чайниками — в стены. Чай с лимоном — в граммофон.
Товарищи его на что ко всему привычные — хрять.
Один Младенец остался.
Вдвоем они и перекрошили все на свете.
Народ как начал сбегаться — выскочили они на улицу; Калуга боченок с кипяченой водой сгреб и дворнику на голову — раз!
Хорошо — крышка открылась и вода чуть тепленькая, а то изуродовать мог бы человека.
Калуга видом свирепый: высокий, плечистый, сутулый, рыжий, глаза кровяные, лицо точно опаленное. Говорит — рявкает сипло. Что ни слово мать.
Про него еще слава: в Екатерингофе или в Волынке где-то вейку зарезал и ограбил, но по недостаточности улик оправдался по суду.
И еще: с родной сестренкою жил как с женою. Сбежала сестра от него.
Калуга силен, жесток и бесстрашен.
Младенец ему под стать.
Ростом выше еще Калуги, мясист. Лицо ребячье: румяное, белобровое, беловолосое.
Младенец настоящий!
И по уму дитя.
Вечно хохочет, озорничает, возится, не разбирая с кем: старух, стариков мнет и щекочет, как девок, искалечить может шутя.
Убьет и хохотать будет. С мальчишками дуется в пристенок, в орлянку.
Есть может сколько угодно, пить — тоже.
Здоровый. В драке хотя Калуге уступает, но скрутить, смять может и Калугу. По профессии — мясник. Обокрал хозяина, с тех пор и путается.
Калуга по специальности не то плотник, не то кровельщик, картонажник или кучер — неизвестно.
С первого дня у Калуги столкновение произошло с царь-бабою.
Калуга заговорил на своем каторжном языке: в трех словах пять матерей.
Анисья Петровна заревела:
— Чего материшься, франт? Здесь тебе не острог!
Калуга из-под нависшего лба глянул, будто обухом огрел, — да как рявкнет:
— Закрой хлебало, сучья отрава! Не то кляп вобью!
Царь-баба мясами заколыхалась и присмирела.
Пожаловалась после своему повару.
Вышел тот, постоял, поглядел и ушел.
С каждым днем авторитет царь-бабы падал.
Калуга ей рта не давал раскрыть.
На угрозы ее позвать полицию свирепо орал:
— Катись ты со своими фараонами к чертовой матери на легком катере.
Или грубо балясничал:
— Чего ты на меня скачешь, сука? Все равно я с тобою спать не буду.
— Тьфу, чорт! Сатана, прости меня, господи! — визжала за стойкою Анисья Петровна, — чего ты мне гадости разные говоришь? Что я потаскуха какая, а?
— Отвяжись, пока не поздно! — рявкал Калуга, оскаливая широкие щелистые зубы. Говорю: за гривенник не подпущу! На чорта ты мне сдалась, свиная туша? Иди, вот, к мяснику, к Яшке. Ему по привычке с мясом возиться. Яшка-а! — кричал он Младенцу: бабе мужик требуется. Ейный-то муж не соответствует. Чево?.. Дурак! Чайнуху заимеешь. На-паях будем с тобой держать!
Младенец глуповато ржал и подходил к стойке:
— Позвольте вам представиться с заплаткой на…
Крутил воображаемый ус. Подмигивал белесыми ресницами. Шевелил носком ухарски выставленной ноги, важно подкашливал:
— Мадама! Же-ву-при пятиалтынный! Це, зиле, але журавле. Не хотится-ль вам пройтить-ся, там, где мельница вертится?..
— Тьфу! — плевалась царь-баба. Погодите, подлецы! Я, ей-богу, околоточному заявлю.
— Пожалуйста, Анись Петровна, — продолжал паясничать Младенец. Только зачем околоточного? Уж лучше градоначальника. Да-с. Только мы эту усю полицию благородно помахиваем-с. Да-с. И вас, драгоценнейшая, таким-же образом. Чего-с? Щей? Не желаю. Ах, вы про околоточного? Хорошо! Заявите на поверке! Или в обчую канцелярию.
— Я те дам "помахиваю". Какой махальщик нашелся. Вот сейчас же пойду, заявлю! — горячилась, не выходя, впрочем, из-за стойки, Анисья Петровна.
А Калуга рявкал, тараща кровяные белки:
— Иди! Зови полицию! Я на глазах пристава тебя поставлю раком. Трепло! Заявлю! А чем ты жить будешь, сволочь? Нашим братом, шпаной да вором только и дышишь, курва!
— Заведение закрою! Дышишь! — огрызалась хозяйка: — Много я вами живу. Этакая голь перекатная, прости господи! Замучилась!
Калуга свирепел:
— Замолчь, сучий род! Кровь у тебя из задницы выпили! Заболела туберкулезом.
Младенец весело вторил:
— Эй! Дайте стакан мусора! Хозяйке дурно!
Такие сцены продолжались до тех пор, пока Анисья Петровна не набрала в рот воды — не перестала вмешиваться в дела посетителей.
В тринадцатой стало весело. Шпана распоясалась. Хозяйку не замечали.
Повар никого уже не усмирял.
ГЛАВА ВТОРАЯ
В жизни Глазастого произошло крупное событие: умер отец его, Костька-Щенок. Объелся.
Случилось это во время знаменитого загула некоего Антошки Мельникова, сына лабазника.
Антошка запойщик, неоднократно гулял со шпаною.
На этот раз загул был дикий. Все ночлежки: Макокина, "Тру-ля-ля" (дом трудолюбия), на Дровяной улице гоп — перепоил Мельников так, что однажды в казенках не хватило вина, в соседний квартал бегали за водкою.
Мельников наследство после смерти отца получил. Ну и закрутил, конечно.
Такой уж человек пропащий!
В тринадцатую он пришел днем, в будни и заказал все.
Шпана заликовала.
— Антоша! Друг! Опять к нам?
— Чего, к вам? — мычал уже пьяный Антошка. Жрите и молчите. Хозяин! Все, что есть — сюда!
Царь-баба, Федосеич, повар и шпана — все зашевелились. Из фартовых только Маркизов, вопреки обыкновению, не пожелал принять участие в гульбе.
Антошка уплатил вперед за все, сам съел кусок трески и выпил стакан чая.

Творчество талантливого прозаика Василия Михайловича Андреева (1889—1941), популярного в 20—30-е годы, сегодня оказалось незаслуженно забытым. Произведения Андреева, посвященные жизни городских низов дооктябрьских и первых послереволюционных лет, отражающие события революции и гражданской войны, — свидетельство многообразия поисков советской литературы в процессе ее становления.

«Вечное возвращение. Повести» – сборник знаковых произведений талантливых писателей 20 – 30-х годов XX века, незаслуженно забытых и практически не публикуемых современными издателями. Целью выхода в свет этой книги является популяризация произведений русских прозаиков классической литературной школы, знакомство с которой особенно полезно при нынешней вакханалии литературных авантюрных проектов.
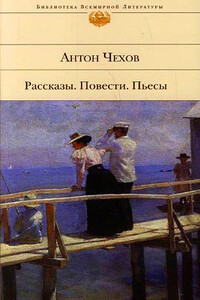
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, номер 136, 19 мая.В собрания сочинений не включалось.Печатается по тексту газеты «Нижегородский листок».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые опубликовано – в альманахе «Война золотом. Альманах приключении», М. 1927. Издание это изобилует опечатками, обессмысливающими текст. Печатается по автографу (ЦГАЛИ).