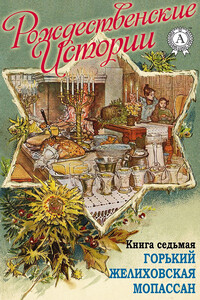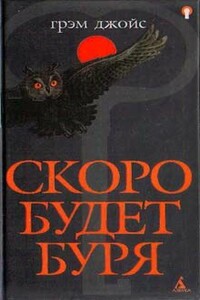Наступает ночь.
Уже вода реки впереди и сзади парохода потемнела и кажется густой, как масло, потемнела и яркая зелень кустарника, пышным ковром покрывшая крутые скаты горного берега, поднимается ветер, сырой и холодный, небо сплошь покрыто тучами, неподвижно застывшими над широкой рекой, луговой берег далеко вглубь залит спокойной, блестящей пеленой воды, кое-где её прорвали большие тёмные пятна островов, образовавшихся от убыли, – но разлив ещё широк, и всюду на горизонте холодно блестят полосы воды, невозмутимо спокойной и ясно отражающей тяжёлые, лохматые облака.
А вокруг парохода, в фарватере, ветер поднял на реке шумную жизнь, маленькие волны идут друг на друга и плещут о борта парохода, разбивающего их в брызги и пену тяжёлыми плицами колёс; от кормы к берегам двумя пышными грядами разбегается вспенённая вода, и тяжёлые вздохи машины, вместе с неумолчной, навевающей скуку музыкой волн, наполняют сырой и гулкий воздух весенней ночи глухим шумом, таким же однообразным и мутным, как и это облачное небо над взволнованной ветром и судном многоводной мощной рекой.
Иногда на горном береге вдруг появится огонёк рыбацкого костра, от него ложится на воду алая кружевная лента отражения, – ложится и весело играет на гребнях волн, потом вдруг пропадает, скрываясь за камнями в углублении берега, за группой деревьев.
И опять слева от парохода молчаливо двигается тёмная стена горного берега, а справа развёртываются луга, уходя к горизонту, где темно и мрачно и откуда на небо, точно рождённые землёй, медленно вползают облака, тяжёлые и тёмные, странных очертаний, грозящие дождём и молниями и громом.
Ночь всё приближается, и глухой шум на реке становится более гулким.
Горы вторят ему слабым эхом?
* * *
По террасе парохода, мимо окон общей мужской второго класса, то и дело заглядывая в них, медленно прохаживается старик, низенького роста, с седой клочковатой бородкой, с ястребиным носом и с маленькими, жёсткими глазками, ушедшими глубоко в орбиты.
По его сухим, морщинистым щекам пробегает судорога каждый раз, когда он кидает острый взгляд в окно рубки, он крякает и ещё глубже старается засунуть закинутые за спину руки в рукава тёплого пальто, надетого на нём. На ногах у него валяные сапоги, от этого его шагов почти не слышно, и это ещё более усиливает хищность его фигуры. Кажется, что он подстерегает кого-то и сильно борется с нетерпением, охватившим его. Он весь как-то пожимается, – но не так, как жмутся от холода, а так, как это делают в волнении. На голове у него тёплый картуз, съехавший на затылок, и старик то и дело встряхивает головой, как бы желая поправить это.
Из каюты доносятся громкие голоса и хохот, звучат стаканы, и из окон её на террасу парохода и на воду реки падают полосы света.
Старик бесшумно шагает по ним и всё кидает острые взгляды в окна каюты.
В ней за столом сидит большая компания мужчин, – председательствует, что-то оживлённо рассказывая и поминутно заливаясь смехом, полный и румяный господин в дворянской фуражке.
Он, подложив под себя ногу, сидит на стуле и держит в одной руке стакан вина, другой бойко жестикулирует. Рядом с ним, с живым любопытством глядя ему в лицо, поместился высокий молодой человек, худой, с узкими насмешливо прищуренными глазами и с тонкими бескровными губами.
Ещё несколько фигур в разных позах свободно расположились за столом. Им весело.
Взрывы хохота то и дело доносятся до ушей старика…
– Тьфу, псы! – энергично и злобно плюнул он, когда публика в рубке расхохоталась особенно сильно.
* * *
С носа парохода на террасе появилась и пошла навстречу старику высокая фигура человека в долгополом меховом сюртуке.
Широкоплечий, солидный, с широким, чисто русским лицом в тёмно-русой окладистой бороде – этот человек поравнялся со стариком, добродушно улыбался ему и густым басом спросил:
– Что, Иван Петрович, операцию новую задумывашь?
– Куда же! Со старым дай бог до смерти управиться.
– Чего ж ты не в рубке, а топчешься тут, на ветру?
– Выжили…
– Кто?
– Вон эти! – И старик зло кивнул головой на окно рубки… Его знакомый с добродушно презрительной улыбкой посмотрел в окно, помолчал и, хлопнув старика по плечу, успокоительно заговорил:
– Ничего, Петрович, пущай их бесятся… А ты знай сам себя и больше никаких…
Давай-ко, сядем вот… Здесь не больно ветрено…
Они сели и молча стали смотреть на берег.
Плыли мимо какой-то деревеньки, выстроившейся по гребню горы… Жалкие огоньки мигали в окнах изб, вётлы печально качали вершинами над их кровлями, лаяли собаки, и слышалась, то появляясь, то исчезая, песня; странно ныряли её тягучие звуки в шуме парохода и реки. И по горе, кое-где, торчали избёнки, в зарослях тоже сверкали огни, и из-за кустов возвышались трубы…
– Марьевка, надо быть… – кивнул головой на берег высокий и звучно зевнул.
Старик ничего не ответил ему и поёжился.
Длинной, чёрной точкой на воде мелькнула лодка – как большая рыба – и пропала из глаз, нырнув в тень берега. Песня на горе звучала всё громче – пели в два голоса, и можно было безошибочно сказать, что пели в одной из изб, освещённой ярче, чем другие, – свет был во всех трёх окнах её и четырёхугольным пятном смотрел на реку из отворённой двери.