Внутренний строй литературного произведения - [76]
Балладные реминисценции вносят в суровый мир «Преступления и наказания» волны поэзии, имеющей привычную власть над человеческой душой. Но в этом же мире они получают и новый мощный поэтический заряд. Раньше других его воздействие почувствовали лирики. В частности, как указывает 3. Г. Минц, строки из «Плясок смерти» Блока:
перефразируют выражение из сна Раскольникова: «Это от месяца такая тишина»[239]. Образ, созданный прозаиком не без помощи поэтических сопряжений, из прозаического текста заново переходит на пространство лирики.
Итак, третий сон – средоточие мотивов, связанных с традиционно романтической поэзией. Последний сон, включенный в эпилог, тоже фантастичен, но стиль и тон этой фантасмагории совсем иные. Нет романтической зыбкости, приблизительного «как будто» (в описании третьего сна оно повторено пять раз). Речь автора обнаженно-четкая; абсурд вселенской бессмыслицы обрисован ясно, отстраняющим от этой бессмыслицы сознанием. Поэтическая опора этой вставной новеллы – Апокалипсис. Грандиозность картины, эмоциональная сила ритмической речи, строй общего нагнетания – все это превращает «горячечные грезы» героя в мрачную поэму общечеловеческой безысходности. Катарсиса в ней нет, его лишены все сны героя, возникающие после преступления. Чувством, близким катарсисом, одушевлена концовка первого сна, выводящего героя, хотя бы временно, из-под власти его идеи. Поэзией чистой красоты пронизано видение оазиса в часы, предшествующие убийству[240]. Через него герой подсознательно спасает себя от мыслей о предстоящем ужасе. После рубежа убийства такое отстранение уже невозможно. Невозможен и частный катарсис. Но все сны вместе – поток нарастания тьмы; которая должна в пределе своем вызвать перелом – «полное воскресение в новую жизнь». Здесь сходство снов с поэзией особого типа – той, что внушена «музой мести и печали, проклятия и отчаяния» (как писал Достоевский о Байроне), но живет тоской по утраченному идеалу.
«Идиот», «Бесы», «Подросток» – при общем единстве художественного мира позднего Достоевского – отличаются от «Преступления и наказания» некой новой свободой в построении художественного целого. Избыточность художественного материала, которую писатель готов был считать своим писательским пороком, но которая составляла неотъемлемое свойство его творческой манеры – по-особому формировала композицию вещи. Суть этого свойства точно передана словами самого Достоевского: «…Множество повестей и рассказов разом втискиваются у меня в один…». Центральная сюжетная линия при такой избыточности не может организовать всю романную постройку. Совмещение, сплетение многих линий разного значения и уровня порождает возможность существования автономных, почти самодовлеющих сфер романного содержания. Художественное единство в этом случае реализуется не как прямое подчинение всего романного материала сюжету, а как соотнесение содержания с центром единого человеческого лица. Связь этого лица с остальными и его власть над остальными скорее «телепатическая», чем фабульная. Между сюжетными проявлениями князя Мышкина и Ипполита, Ставрогина и Кириллова, Версилова и Сергея Сокольского – своего рода пробелы, зияния. Они перекрываются не столько прямыми фабульными ходами, сколько единством общей атмосферы романа.
Этими общими чертами структуры обусловлен и особый характер поэтических узлов в названных произведениях. Сильнейшими источниками поэзии являются здесь прежде всего характеры центральных лиц – героев «поэмы», если использовать выражение самого Достоевского. Поэтичность, излучаемая ими, лишена строгой локальности. Это постоянно сопровождающая их аура. В наибольшей мере концентрируют ее представляющие героев вставные новеллы. Более опосредованным ее проявлением может стать общая, замыкающая роман мифологема.
Поэтические узлы иного рода – строго локальные – связываются с тем, что можно было бы назвать дополнительными сюжетами. Часто в их основу кладется «каноническая ситуация» – вариация известных литературных тем, живописная или музыкальная фантазия. (Хотя в принципе каноническая ситуация может быть использована и во вставной новелле, непосредственно связанной с главным героем.)
В «Идиоте» и «Бесах» поэтическая власть центрального лица сильнее, чем в «Подростке». Соответственно, именно в «Подростке» обретают повышенное значение периферийные сгущения поэтической образности.
Как же создается у Достоевского ореол героя «поэмы»?
Начнем с очевидного. В пятикнижии Мышкин и Ставрогин – герои-антиподы. Оба они представлены как единственные. Свидетельством выделенности является уже слово «князь». При этом Мышкин– «имя историческое», а Ставрогин– «князь» лишь в вещих снах Хромоножки, но по сути их княжество почти в равной мере условно. Ведь и Настасья Филипповна при первом знакомстве с читателем, в эпизоде с бриллиантовыми подвесками, названа «княгиней», а дворовому, страннику Макару дана фамилия – Долгорукий. Слово «князь» у Достоевского тронуто едва заметным оттенком фольклорности. В свадебно-обрядной поэзии так зовется главный герой действа – жених. В таком назывании – знак первенства, гарантия благородства, достоинства, чести. (См. у Блока: «Мой любимый, мой князь, мой жених…»). И Мышкин, и Ставрогин в романной реальности приподняты над этой реальностью, над бытовым и даже историческим уровнями. Источник поэзии, которой они заражают окружающее, в их подключенности к образам и представлениям дальнего литературного и легендарного плана.

Вторая книга о сказках продолжает тему, поднятую в «Страшных немецких сказках»: кем были в действительности сказочные чудовища? Сказки Дании, Швеции, Норвегии и Исландии прошли литературную обработку и утратили черты древнего ужаса. Тем не менее в них живут и действуют весьма колоритные персонажи. Является ли сказочный тролль родственником горного и лесного великанов или следует искать его родовое гнездо в могильных курганах и морских глубинах? Кто в старину устраивал ночные пляски в подземных чертогах? Зачем Снежной королеве понадобилось два зеркала? Кем заселены скандинавские болота и облик какого существа проступает сквозь стелющийся над водой туман? Поиски ответов на эти вопросы сопровождаются экскурсами в патетический мир древнескандинавской прозы и поэзии и в курьезный – простонародных легенд и анекдотов.

В книге члена Пушкинской комиссии при Одесском Доме ученых популярно изложена новая, шокирующая гипотеза о художественном смысле «Моцарта и Сальери» А. С. Пушкина и ее предвестия, обнаруженные автором в работах других пушкинистов. Попутно дана оригинальная трактовка сверхсюжера цикла маленьких трагедий.
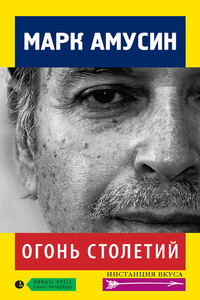
Новый сборник статей критика и литературоведа Марка Амусина «Огонь столетий» охватывает широкий спектр имен и явлений современной – и не только – литературы.Книга состоит из трех частей. Первая представляет собой серию портретов видных российских прозаиков советского и постсоветского периодов (от Юрия Трифонова до Дмитрия Быкова), с прибавлением юбилейного очерка об Александре Герцене и обзора литературных отображений «революции 90-х». Во второй части анализируется диалектика сохранения классических традиций и их преодоления в работе ленинградско-петербургских прозаиков второй половины прошлого – начала нынешнего веков.

Что мешает художнику написать картину, писателю создать роман, режиссеру — снять фильм, ученому — закончить монографию? Что мешает нам перестать искать для себя оправдания и наконец-то начать заниматься спортом и правильно питаться, выучить иностранный язык, получить водительские права? Внутреннее Сопротивление. Его голос маскируется под голос разума. Оно обманывает нас, пускается на любые уловки, лишь бы уговорить нас не браться за дело и отложить его на какое-то время (пока не будешь лучше себя чувствовать, пока не разберешься с «накопившимися делами» и прочее в таком духе)

В настоящее издание вошли литературоведческие труды известного литовского поэта, филолога, переводчика, эссеиста Томаса Венцлова: сборники «Статьи о русской литературе», «Статьи о Бродском», «Статьи разных лет». Читатель найдет в книге исследования автора, посвященные творчеству Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, поэтов XX века: Каролины Павловой, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Владислава Ходасевича, Владимира Корвина-Пиотровского и др. Заключительную часть книги составляет сборник «Неустойчивое равновесие: Восемь русских поэтических текстов» (развивающий идеи и методы Ю. М. Лотмана), докторская диссертация автора, защищенная им в Йельском университете (США) в 1985 году.

Книга «Реализм Гоголя» создавалась Г. А. Гуковским в 1946–1949 годах. Работа над нею не была завершена покойным автором. В частности, из задуманной большой главы или даже отдельного тома о «Мертвых душах» написан лишь вводный раздел.Настоящая книга должна была, по замыслу Г. А. Гуковского, явиться частью его большого, рассчитанного на несколько томов, труда, посвященного развитию реалистического стиля в русской литературе XIX–XX веков. Она продолжает написанные им ранее работы о Пушкине («Пушкин и русские романтики», Саратов, 1946, и «Пушкин и проблемы реалистического стиля», М., Гослитиздат, 1957)