Внутренний строй литературного произведения - [78]
Первые рассказывают о единичных судьбах; последняя – прозрение судеб человечества. Но при этом немалом различии все рассказы едины в своей устремленности к изначальным сферам бытия. Не только в описании «последнего дня человечества», но и в истории бедной девушки или богатого купца центром изображения оказываются некие первичные состояния жизни и души (патриархальность, детство), смена цельных полярных чувств – ненависти и любви, жестокости и милосердия. На единичные происшествия ложатся отсветы легенды: евангельского сюжета Христа и Марии Магдалины или историй о покаянии великих грешников. Значительность внутреннего содержания рождает чувство предельного напряжения. Вновь всплывает характерная для Достоевского оценка-ощущение – «горячий». В «Подростке» через это слово определяется тон рассказов Макара Долгорукого. «…Этого почти нельзя было вынести без слез, – говорит Аркадий о "Житии Марии Египетской", – и не от умиления, а от какого-то странного восторга: чувствовалось что-то необычайное и горячее, как та раскаленная песчаная степь со львами, в которой скиталась святая» [XIII, 309].
«Странный восторг», «что-то необычайное и горячее» – Аркадий говорит о состоянии, близком пафосу в старом значении этого слова. Пафосный стиль в искусстве (и Достоевского как одного из творцов этого стиля) специально изучал С. Эйзенштейн. «…Основным принципом пафосной композиции, – пишет он, – оказывается непрестанное "исступление", непрестанный "выход из себя", непрестанный скачок каждого отдельного элемента или признака произведения из качества в качество…» В момент такого скачка, – показывает исследователь, – может измениться сама фактура изображения.
Так и в истории купца Воскобойникова на пределе человеческой муки из самой этой муки рождается мысль о необычайном творении искусства. Решившись казнить себя за смерть измученного им ребенка, Воскобойников заказывает картину, «самую большую», «во всю стену», подробно объясняя, что и как должно быть там изображено: «…и напиши на ней перво-наперво реку, и спуск, и перевоз, и чтоб все люди, какие были тогда, все были. И чтоб полковница и девочка были, и тот самый ежик. Да и другой берег все мне спиши. И тут у перевоза мальчика, над самой рекой, на том самом месте, и беспременно, чтобы два кулачка вот так к груди прижал, к обоим сосочкам. Беспременно это. И раскрой ты перед ним с той стороны, над церковью, небо, чтобы все ангелы на свете небесном летели встречать его» [XIII, 319].
Требование, неоднократно повторенное, – воспроизвести в точности все, что было, сообщает силу невероятной убедительности и тому, что должно было бы быть. Ангелы в этом случае не менее реальны, чем полковница и ежик. Но столь же достоверно и чувство великого взлета, когда над непоправимо-совершившимся раскрывается небо все искупающей милости. Мгновение застывает на века. Литература ощущает потребность в живописи. Также в романе «Идиот» в рассказе о смертной казни на пределе напряжения рождается картина, которую князь Мышкин сочиняет для Аделаиды:
«Нарисуйте эшафот так, чтобы видна была ясно и близко одна только последняя ступень; преступник ступил на нее: голова, лицо, бледное, как бумага, священник протягивает крест, тот с жадностью протягивает свои синие губы и глядит, и – все знает. Крест и голова – вот картина, лицо священника, палача, его двух слуг жителей и несколько голов и глаз снизу, – все это можно нарисовать как бы на третьем плане, как в тумане, для аксессуара…» [VIII, 56].
Картины купца и князя – образцы полярных стилей художественного мышления. Первый – наивно-фольклорный; второй – почти модернистский («…крест и голова – вот картина…»). Но характер восприятия живописи в мире Достоевского остается единым.
Чтобы понять картину, – объясняет князь, – «нужно все представить, что было заранее, все, все». Суть этого «всего» – нечто неподвластное закону времени и перемен. Однако, когда эта суть запечатлена, мгновение способно высвободить, сконцентрированный в нем временной объем. Так, для Версилова века длится мгновение, остановленное картиной Клода Лорена «Азис и Галатея».
Две новеллы о золотом веке, навеянные этой картиной, – гармоничнейшее из созданий Достоевского. Важно, что степень этой гармоничности росла по мере работы писателя над сюжетом; именно к этой цели были направлены сознательные усилия Достоевского. Картина золотого века, первоначально включенная в «Исповедь» Ставрогина, там была сопряжена с памятью об ужасном преступлении. В «Подростке» Достоевский освобождает ее от этого страшного сопровождения, а образ «первого дня европейского человечества» дополняет фантазией на тему его последнего дня. Эти парные новеллы с двух сторон окаймляют исповедь «русского скитальца» – Версилова. Их сливает воедино ключевой мотив – «величавое зовущее солнце в картине Клода Лорена».
Как же осуществляется построение образа гармонии, длящейся века, – младенчески-ясной при ее начале или закатно-грустной в конце, но в равной степени незыблемой? Думается, сам тип описания был в этом случае был подсказан Достоевскому не только живописью, но и специфическим опытом поэзии.

Вторая книга о сказках продолжает тему, поднятую в «Страшных немецких сказках»: кем были в действительности сказочные чудовища? Сказки Дании, Швеции, Норвегии и Исландии прошли литературную обработку и утратили черты древнего ужаса. Тем не менее в них живут и действуют весьма колоритные персонажи. Является ли сказочный тролль родственником горного и лесного великанов или следует искать его родовое гнездо в могильных курганах и морских глубинах? Кто в старину устраивал ночные пляски в подземных чертогах? Зачем Снежной королеве понадобилось два зеркала? Кем заселены скандинавские болота и облик какого существа проступает сквозь стелющийся над водой туман? Поиски ответов на эти вопросы сопровождаются экскурсами в патетический мир древнескандинавской прозы и поэзии и в курьезный – простонародных легенд и анекдотов.

В книге члена Пушкинской комиссии при Одесском Доме ученых популярно изложена новая, шокирующая гипотеза о художественном смысле «Моцарта и Сальери» А. С. Пушкина и ее предвестия, обнаруженные автором в работах других пушкинистов. Попутно дана оригинальная трактовка сверхсюжера цикла маленьких трагедий.
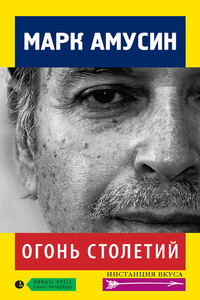
Новый сборник статей критика и литературоведа Марка Амусина «Огонь столетий» охватывает широкий спектр имен и явлений современной – и не только – литературы.Книга состоит из трех частей. Первая представляет собой серию портретов видных российских прозаиков советского и постсоветского периодов (от Юрия Трифонова до Дмитрия Быкова), с прибавлением юбилейного очерка об Александре Герцене и обзора литературных отображений «революции 90-х». Во второй части анализируется диалектика сохранения классических традиций и их преодоления в работе ленинградско-петербургских прозаиков второй половины прошлого – начала нынешнего веков.

Что мешает художнику написать картину, писателю создать роман, режиссеру — снять фильм, ученому — закончить монографию? Что мешает нам перестать искать для себя оправдания и наконец-то начать заниматься спортом и правильно питаться, выучить иностранный язык, получить водительские права? Внутреннее Сопротивление. Его голос маскируется под голос разума. Оно обманывает нас, пускается на любые уловки, лишь бы уговорить нас не браться за дело и отложить его на какое-то время (пока не будешь лучше себя чувствовать, пока не разберешься с «накопившимися делами» и прочее в таком духе)

В настоящее издание вошли литературоведческие труды известного литовского поэта, филолога, переводчика, эссеиста Томаса Венцлова: сборники «Статьи о русской литературе», «Статьи о Бродском», «Статьи разных лет». Читатель найдет в книге исследования автора, посвященные творчеству Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, поэтов XX века: Каролины Павловой, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Владислава Ходасевича, Владимира Корвина-Пиотровского и др. Заключительную часть книги составляет сборник «Неустойчивое равновесие: Восемь русских поэтических текстов» (развивающий идеи и методы Ю. М. Лотмана), докторская диссертация автора, защищенная им в Йельском университете (США) в 1985 году.

Книга «Реализм Гоголя» создавалась Г. А. Гуковским в 1946–1949 годах. Работа над нею не была завершена покойным автором. В частности, из задуманной большой главы или даже отдельного тома о «Мертвых душах» написан лишь вводный раздел.Настоящая книга должна была, по замыслу Г. А. Гуковского, явиться частью его большого, рассчитанного на несколько томов, труда, посвященного развитию реалистического стиля в русской литературе XIX–XX веков. Она продолжает написанные им ранее работы о Пушкине («Пушкин и русские романтики», Саратов, 1946, и «Пушкин и проблемы реалистического стиля», М., Гослитиздат, 1957)