Внутренний строй литературного произведения - [70]
Главная черта этого психологического типа – предельная личностность. В Некрасове для Достоевского повышенно личностно даже то, в чем видится обычно нечто надындивидуальное – народность его поэзии. «…Любовь к народу была у Некрасова, – убежден писатель, – как бы исходом его собственной скорби по себе самом» [XXVI, 125]. Рассказывая в «Дневнике писателя» о своей речи над некрасовской могилой, Достоевский настаивает на том, что считает главным: «Я именно начал с того, что это было раненое сердце, раз на всю жизнь, и незакрывавшаяся рана эта была источником всей его поэзии, всей страстной до мучения любви этого человека ко всему, что страдает от насилия, от жестокости необузданной воли, что гнетет нашу русскую женщину, нашего ребенка в русской семье, нашего простолюдина в горькой, часто, доле его» [XXVI, 112].
Надрывная исповедальность, способность ранить душу, достающаяся лишь ценой собственной израненности, – такова природа великих лириков. Вывод этот не сформулирован, но он напрашивается из «некрасовских» глав «Дневника писателя».
Можно выделить и еще некоторые черты некрасовского облика в восприятии Достоевского, в которых выражаются родовые свойства поэзии. Давно замечено, к примеру, что определенные образы Некрасова запоминались писателем на всю жизнь, входили претворенными в собственные его произведения. Анализ некоторых из них имеет отношение к нашему вопросу – особенно история «жизни» в текстах Достоевского стихотворения «Когда из мрака заблужденья…». О нем много писали (прежде всего, в связи с «Записками из подполья»[224], но тема далеко еще не исчерпана.
Достоевский, как известно, вводил это стихотворение в свои произведения трижды: в «Село Степанчиково…», «Записки из подполья», «Братья Карамазовы». На мой взгляд, оно присутствует и в подтексте романа «Идиот». Последнее важно, поскольку проясняет отношение писателя к тому образу мысли и жизни, который виделся ему в этих стихах.
В «Селе Степанчикове…» стихи читает рассказчик– приехавший из Петербурга молодой человек – в качестве иллюстрации к мысли «о том, что в самом падшем создании могут еще сохраниться высочайшие человеческие чувства, что неисследима глубина души человеческой; что нельзя презирать падших, а, напротив, должно отыскивать и восстановлять…» [III, 161]. Как пример такого отношения упоминается даже натуральная школа. Чувства юноши благородны, но не лишены прекраснодушия. А в упоминании натуральной школы, как отмечается в примечаниях к полному собранию сочинений Достоевского, присутствует скрытая полемика с просветительскими взглядами на роль среды в формировании человека [III, 502].
В «Записках из подполья» отрывок того же стихотворения выступает в роли эпиграфа к второй части повести. Кроме того, в тексте повести дважды цитируются его финальные строки:
Поведение парадоксалиста явно противоречит норме, представленной в стихах. Обнаруживается книжный, головной характер некрасовской проповеди, но, как показывает современный исследователь, через критерий этой проповеди унижен и сам антигерой, неспособный к подлинной человечности[225].
В высшей степени способен к ней антипод подпольного человека, юродивый, князь Мышкин. Записные тетради фиксируют один из планов романа: «Он восстановляет Н(астасью) Ф(илипповну)…» [IX, 366]. Показательна словесная близость к высказыванию героя «Села Степанчикова…», а также к более позднему заявлению Достоевского о том, что «восстановление погибшего человека» – «основная мысль всего искусства девятнадцатого столетия» [XX, 28], Есть и другая запись, свидетельствующая о сходстве отношений князя и Настасьи Филипповны со схемой, намеченной стихотворением: «У Генеральши знают наконец, что он перевоспитывает Н. Ф. и воскрешает душу (Аглая поняла)». Но, вопреки этим планам, роман разворачивается трагически. Источник дисгармонии на этот раз – не поведение героя, а душевное состояние героини. Возникают параллели с той частью некрасовских стихов, которая в «Записках из подполья» была опущена. «Падшая душа» у Некрасова не в силах поверить в возможность нового счастья:
Непреходящее чувство собственной виновности поэт готов считать уступкой ложному общественному мнению:
Как и лирический герой Некрасова, «невинный» князь Мышкин не может внутренне принять парадокса, по которому «падшая душа» и после «восстановления» не в состоянии отрешиться от муки опозоренности. «Эта несчастная женщина, – говорит он о Настасье Филипповне, – глубоко убеждена, что она самое павшее, самое порочное существо из всех на свете… Знаете ли, что в этом беспрерывном сознании позора для нее, может быть, заключается какое-то ужасное, неестественное наслаждение, точно отмщение кому-то» [VIII, 361].
В романе бесконечно углублен тот мотив самоказни, который в стихотворении отражен непосредственно – без понимания таящейся здесь психологической бездны. Углублена и сфера мотивации намерений героя. Причем «Записки из подполья» и «Идиот» предлагают возможности полярных подтекстов. Если парадоксалист одушевлен тем книжным пафосом, при котором тут же обнаруживается обратная сторона медали, то по отношению к Мышкину мысли о «ложно-демократическом», «головном» характере его чувств прямо отвергаются через демонстрацию мнимо-проницательных соображений его антагониста – Евгения Павловича Радомского. Любовь-жалость у князя – коренное свойство его натуры, уникальной, не пророчащей высокую норму человечности.

Вторая книга о сказках продолжает тему, поднятую в «Страшных немецких сказках»: кем были в действительности сказочные чудовища? Сказки Дании, Швеции, Норвегии и Исландии прошли литературную обработку и утратили черты древнего ужаса. Тем не менее в них живут и действуют весьма колоритные персонажи. Является ли сказочный тролль родственником горного и лесного великанов или следует искать его родовое гнездо в могильных курганах и морских глубинах? Кто в старину устраивал ночные пляски в подземных чертогах? Зачем Снежной королеве понадобилось два зеркала? Кем заселены скандинавские болота и облик какого существа проступает сквозь стелющийся над водой туман? Поиски ответов на эти вопросы сопровождаются экскурсами в патетический мир древнескандинавской прозы и поэзии и в курьезный – простонародных легенд и анекдотов.

В книге члена Пушкинской комиссии при Одесском Доме ученых популярно изложена новая, шокирующая гипотеза о художественном смысле «Моцарта и Сальери» А. С. Пушкина и ее предвестия, обнаруженные автором в работах других пушкинистов. Попутно дана оригинальная трактовка сверхсюжера цикла маленьких трагедий.
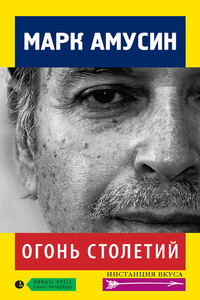
Новый сборник статей критика и литературоведа Марка Амусина «Огонь столетий» охватывает широкий спектр имен и явлений современной – и не только – литературы.Книга состоит из трех частей. Первая представляет собой серию портретов видных российских прозаиков советского и постсоветского периодов (от Юрия Трифонова до Дмитрия Быкова), с прибавлением юбилейного очерка об Александре Герцене и обзора литературных отображений «революции 90-х». Во второй части анализируется диалектика сохранения классических традиций и их преодоления в работе ленинградско-петербургских прозаиков второй половины прошлого – начала нынешнего веков.

Что мешает художнику написать картину, писателю создать роман, режиссеру — снять фильм, ученому — закончить монографию? Что мешает нам перестать искать для себя оправдания и наконец-то начать заниматься спортом и правильно питаться, выучить иностранный язык, получить водительские права? Внутреннее Сопротивление. Его голос маскируется под голос разума. Оно обманывает нас, пускается на любые уловки, лишь бы уговорить нас не браться за дело и отложить его на какое-то время (пока не будешь лучше себя чувствовать, пока не разберешься с «накопившимися делами» и прочее в таком духе)

В настоящее издание вошли литературоведческие труды известного литовского поэта, филолога, переводчика, эссеиста Томаса Венцлова: сборники «Статьи о русской литературе», «Статьи о Бродском», «Статьи разных лет». Читатель найдет в книге исследования автора, посвященные творчеству Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, поэтов XX века: Каролины Павловой, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Владислава Ходасевича, Владимира Корвина-Пиотровского и др. Заключительную часть книги составляет сборник «Неустойчивое равновесие: Восемь русских поэтических текстов» (развивающий идеи и методы Ю. М. Лотмана), докторская диссертация автора, защищенная им в Йельском университете (США) в 1985 году.

Книга «Реализм Гоголя» создавалась Г. А. Гуковским в 1946–1949 годах. Работа над нею не была завершена покойным автором. В частности, из задуманной большой главы или даже отдельного тома о «Мертвых душах» написан лишь вводный раздел.Настоящая книга должна была, по замыслу Г. А. Гуковского, явиться частью его большого, рассчитанного на несколько томов, труда, посвященного развитию реалистического стиля в русской литературе XIX–XX веков. Она продолжает написанные им ранее работы о Пушкине («Пушкин и русские романтики», Саратов, 1946, и «Пушкин и проблемы реалистического стиля», М., Гослитиздат, 1957)