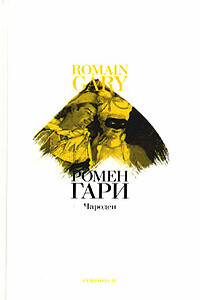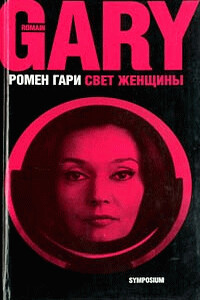– Кому угодно? Кому угодно? Кому угодно? – кричала старуха, потряхивая блюдо для вящего искушения. – Горяченькие сиси, с пылу с жару! За пару двадцать су, за пару двадцать!
Причудливый скелет в подштанниках в огненно-красную, как павианий зад, полоску изрыгнул назад гармошку, гармошка вылетела изо рта скелета с жалобным напевом, и, млея от восторга, скелет – вы слышите, скелет, а не гармошка! – нацелился на блюдо с сисями, он принял их за восходящее на горизонте солнце, решил, что спьяну у него в глазах двоится; а розовый легашик-пупсик встал и блохой скакнул на блюдо, а голенький легаш, похожий как две капельки воды на господина президента – ура! ура! ура! – тот, что задумчиво мочился прямо в рот несчастного коллеги, который не умел сопротивляться, а потому чудовищно рычал, прервал свое зловредное занятие и сам так страшно, дико зарычал, что его член перепугался, отвалился, соскочил на землю и уковылял скорее прочь, – словом, все, что кишело в могиле, встрепенулось, помчалось, рванулось к старухе, а та, на полусогнутых, раздвинутых как можно шире – чтобы было лучше видно – ногах, с двумя грудями, что умильно тявкали и подпрыгивали на блюде, точно пара пудельков, и окруженная кривыми харями, как у уродов из паноптикума восковых фигур, куда папаши водят своих взрослеющих балбесов, чтобы они боялись подхватить сифак, который все равно подхватят, как вы и я, как все на свете, – выкрикивала:
– Горяченькие сиси! Горяченькие, с пылу с жару! За пару двадцать су, за пару!
Но недолго – ее схватили, потащили сотни рук, и началась неописуемая свалка: вокруг орали и хрипели, кусались, рвали в клочья, всем не терпелось насладиться, все сцепились; колени, плечи, пальцы, глазницы, ягодицы – все смешалось и покатилось по земле огромным комом легашатины: направо и налево, взад-вперед, вниз головой и вверх тормашками; ком натыкался на гробы, надгробья, плиты, стены, катился и катился, перекатывался по углам; все черепа-светильники погасли, чтобы этого не видеть; между тем старухой, которую швырнули в чей-то гроб, в прямом и переносном смысле овладел хорошенький легашик-пупсик и дрючил ее раз, и два, и десять, и полсотни раз без передышки; и бесновалась свора легашей, и эту сцену обступала тьма, рты и зады орали, бздели, надрывались…
Тюлип завыл, задергался, открыл глаза – ночная тьма рассеялась.
Он сидел верхом на могильном камне и сжимал в одной руке пустую бутылку, в другой – крест. Землистая заря сочилась бледным тусклым светом.
За кладбищенской оградой торчал потухший газовый фонарь, повсюду слякоть, грязь, вдалеке – городские дома.
Белесые клубы висели над крышами.
Дымились трубы.
Дым поднимался к небу застывшими прямыми струями.
Птицы бились в тумане, словно в огромной паутине.