Ветер западный - [80]
Он стоял у моей постели, его трясло, словно ледяным ветром пробирало, и он тяжело дышал. Вероятно, он почти ничего не видел, источником света был только ночной фонарь, висевший у моей двери, свечу он с собой не прихватил, и ее розоватое сияние не проникало сквозь мои веки. Только теперь я услышал, как лупит дождь по крыше и стенам дома. Затем зашевелился Ньюман — опустился на колени, предположил я.
— Беда в том, что когда притворяешься спящим, усилие казаться погруженным в сон мешает впасть в забытье. И ты плохой актер. — Последнюю фразу он прошептал мне прямо в ухо.
От моего дыхания под покрывалами запахло гнилью; Ньюман был прав, для спящего я дышал слишком неровно и часто — в такт бешено бившемуся сердцу. Казалось, мои легкие вот-вот лопнут, и Ньюман, наверное, слышал, как они трещат.
— Прошу тебя, Джон. Позволь мне сходить за тем, что требуется для причастия, и принести сюда. — Он подождал ответа. Потом хлопнул себя по ляжкам: — В чем дело, Джон? Ты мне больше не друг?
Отравленным и больным, вот кем я был; Хиксон, должно быть, положил какой-то тухлятинки в свадебную брагу. Когда Ньюман вновь заговорил, голос его из темноты прилетел ко мне стрелой с ярким оперением.
— Когда моя дочка умерла от потной горячки, — говорил он, — я взял мою скорбь в руки и мял ее, пока она не стала походить на любовь, и эту любовь я отдал моей жене. У нас было восемь дней любви. Прежде я не любил ее как должно, я не был ласковым мужем, как и она не была ласковой женой. У нас было восемь дней, чтобы понять, как мы нуждаемся друг в друге, а потом она тоже заболела и умерла. Я не верю в эту жизнь. В жизнь, которая нам дается. Я пожил неплохо, был смел и добр, и мне отвечали добротой, и тем не менее надежды я так и не обрел, не нашел, на что нам надеяться. Эта жизнь, Джон… я сомневаюсь в ее разумности, если таковая ей вообще свойственна. Ты настаиваешь на ее разумности, и я тебе верю. Но я хочу поставить эту жизнь на кон и проиграться в прах, уповая на то, что иная жизнь будет лучше. Ты сам говоришь, что она лучше, и я тебе верю. А еще ты сказал, что для меня уже уготовано место на небесах, ты сам добился для меня этого места, отпустив мне все мои грехи, поскольку я заслужил отпущение добрыми делами, и я верю тебе. И что плохого в том, если я сам отправлю себя на небеса?
Меня словно гвоздями прибили к постели. Отвечая на незаданный вопрос, Ньюман добавил:
— Моя смерть будет выглядеть как прискорбная случайность, утопление, и вреда это никому не причинит. О завещании ты знаешь; я не хочу умереть, разорив эту деревню и этих людей, и я прошу тебя наставлять Тауншенда, чтобы он хорошенько заботился о приходе. Ты не подведешь. Ты хороший человек. — Он помолчал. — Позволь мне умереть с благословения церкви и Бога. Я хочу умереть.
Мускулы и кости под моей кожей и жилы, надутые кровью, забурлили этаким супом, подталкивая меня к действию, но когда я был уже готов сесть и обратиться к Ньюману (велеть ему выбросить из головы то, что у него в голове, потому что его жизнь драгоценна), прилив крови и боевитости был остановлен моей же кожей. Меня пронзил ледяной холод, и боль в черепе, и горечь от вчерашнего предательства, что привело меня в такую ярость, какой я никогда не испытывал. “Я не человек дела, Джон. Я человек духа”, — сказал Ньюман. Я человек духа. Подразумевая “а ты нет, Джон”.
Его ладонь опустилась на мое предплечье и сжала его.
— Мне нужно последнее причастие. Я не могу умереть без покаяния.
Я не шелохнулся. Ньюман ждал, не отнимая ладони. У меня челюсти ломило от желания высказаться, сесть и донести до него правду без прикрас: если ты весь из себя человек духа, а я весь из себя человек дела, тогда я должен приходить к тебе за причастием.
Мое сердце билось, как птица, что рвется вон из запертой комнаты. Ньюман стиснул пальцы, затем ослабил хватку. Я не шевельнулся, пока он не убрал руку. Ньюман встал во весь рост, нависая надо мной. Дождь то бил в барабан, то булькал звонко, будто играл на фиделе. Меня тронуло то, что Ньюман не ушел сразу, но стоял, надеясь, — такой уж он был человек, терпеливый, настойчивый. Я крепился изо всех сил, чтобы не приподняться и не протянуть ему руку, чтобы не услышать негромкое Benedicite, предложив в ответ: Dominus. Он стоял неподвижно, я лежал неподвижно, битва между нами велась глазами — его не желали отворачиваться, мои не желали открываться.
Наконец послышался вздох, шаги, и тьма поглотила его; он находился где-то в комнате, но я не мог понять где, пока свеча над дверью не погасла (от сквозняка или ее задули?) и дверь не скрипнула, открываясь, чтобы потом захлопнуться от толчка.
Сколько-то времени пришло и ушло. Много ли, мало? Хватило, чтобы нечто свинцовое опустилось по моим ногам до ступней и внезапный жар охватил подошвы, словно вместо вышедшей из строя головы мои стопы взяли на себя труд подумать. Как мог священник допустить, чтобы его прихожанин отправился на смерть без покаяния? И кем надо быть, что совершить такое? Я вылез из постели, меня шатало, но ступни, эти выступы совести, стояли твердо; завернувшись в одеяло, я отпер дверь и обнаружил, что совесть оживила мое тело целиком, а гнев схлынул куда-то далеко, далеко. Я побежал к Старому мосту под мелким дождичком, что сыпался из бездушных туч. Впереди, в рассеивающейся тьме, я углядел Ньюмана, он шагал к своему дому — не к реке, домой. Я шел за ним следом, пока он не переступил порог, а потом долго стоял под деревом на окраине леса, выжидая: выйдет ли он обратно или останется дома. Из трубы поднялись утешительные завитки дыма, и в воздухе запахло дубом. Мимолетный каприз и хандра отпустили Ньюмана, и он передумал — конечно, передумал, ибо кто, не утративший остатки разума, решится умереть без покаяния.
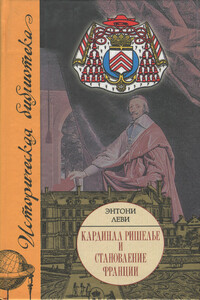
Подробная и вместе с тем увлекательная книга посвящена знаменитому кардиналу Ришелье, религиозному и политическому деятелю, фактическому главе Франции в период правления короля Людовика XIII. Наделенный железной волей и холодным острым умом, Ришелье сначала завоевал доверие королевы-матери Марии Медичи, затем в 1622 году стал кардиналом, а к 1624 году — первым министром короля Людовика XIII. Все свои усилия он направил на воспитание единой французской нации и на стяжание власти и богатства для себя самого. Энтони Леви — ведущий специалист в области французской литературы и культуры и редактор авторитетного двухтомного издания «Guide to French Literature», а также множества научных книг и статей.

Мемуары де Латюда — незаменимый источник любопытнейших сведений о тюремном быте XVIII столетия. Если, повествуя о своей молодости, де Латюд кое-что утаивал, а кое-что приукрашивал, стараясь выставить себя перед читателями в возможно более выгодном свете, то в рассказе о своих переживаниях в тюрьме он безусловно правдив и искренен, и факты, на которые он указывает, подтверждаются многочисленными документальными данными. В том грозном обвинительном акте, который беспристрастная история составила против французской монархии, запискам де Латюда принадлежит, по праву, далеко не последнее место.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эта история произошла в реальности. Её персонажи: пират-гуманист, фашист-пацифист, пылесосный император, консультант по чёрной магии, социологи-террористы, прокуроры-революционеры, нью-йоркские гангстеры, советские партизаны, сицилийские мафиози, американские шпионы, швейцарские банкиры, ватиканские кардиналы, тысяча живых масонов, два мёртвых комиссара Каттани, один настоящий дон Корлеоне и все-все-все остальные — не являются плодом авторского вымысла. Это — история Италии.

В книгу вошли два романа ленинградского прозаика В. Бакинского. «История четырех братьев» охватывает пятилетие с 1916 по 1921 год. Главная тема — становление личности четырех мальчиков из бедной пролетарской семьи в период революции и гражданской войны в Поволжье. Важный мотив этого произведения — история любви Ильи Гуляева и Верочки, дочери учителя. Роман «Годы сомнений и страстей» посвящен кавказскому периоду жизни Л. Н. Толстого (1851—1853 гг.). На Кавказе Толстой добивается зачисления на военную службу, принимает участие в зимних походах русской армии.

В книге рассматривается история древнего фракийского народа гетов. Приводятся доказательства, что молдавский язык является преемником языка гетодаков, а молдавский народ – потомками древнего народа гето-молдован.