Ветер западный - [78]
— Что, по-вашему, я должен сделать? — спросил я.
— Когда нет ни ясности, ни очевидного прегрешения, Рив, однако затруднение пока не устранено, вы обязаны подавать пример своим прихожанам.
— Я стараюсь.
— И не позволять пастве упорствовать в заблуждениях и… нравственной испорченности.
Ничего, кроме юбчонки, надетой на Иисуса, я не мог припомнить. Неужели это его так задело? Не вой же и возня коров в хлеву.
— Вы что-то подметили во время нашей прогулки? — спросил я.
Он молчал.
— Например, юбку вокруг чресл Христа на Новом кресте. Видите ли, это всего лишь озорство. Я всегда полагал, что если деревенским хватает духу озорничать, значит, они пребывают в добром здравии. А вы так не думаете?
В конце концов мне надоело его молчание, я разозлился, и мне было тяжко сидеть в доме Ньюмана, в кресле Ньюмана, когда Ньюмана больше нет.
— Тогда что вы имеете в виду? — допытывался я. — Коров в хлеву? Вы ожидали, что я разведу этих животных голыми руками, когда одна наскакивает, а другая уворачивается? Или я должен был поймать того парнишку на лету, прежде чем он приземлился во рву с дерьмом? Зажать ладонью рот Джейн Смит, когда ее рвало? Развеять облака и поменять мерзкую погоду на благодатную?
— Сегодня вечером я увидел, как Сесили Тауншенд зашла к вам во двор с большим свертком в руках, — ответил благочинный, — и я подумал, как странно: самая высокопоставленная женщина в деревне служит у кого-то на посылках. Вам есть что сказать по этому поводу, дабы рассеять мое недоумение?
Я как раз потянулся к щиколотке, но замер. Ладонь моя обмякла, и я откинулся на спинку кресла.
— Какое отношение это имеет к нашей беседе?
— То есть вам нечего сказать?
— Она принесла гуся, — ответил я. Врать не имело смысла, и к тому же я догадывался, что вопрос он задал лишь приличия ради, а сам уже побывал на задворках моего дома и заглянул в сверток. — Гуся, только и всего.
— Гуся? Зачем же вам гусь, когда вот-вот начнется Великий пост?
Я положил ладони на мои расставленные колени:
— Это была простая любезность со стороны Сесили Тауншенд.
— И вы поделитесь этой любезностью с вашим приходом?
— Боюсь, там делить особо нечего.
— Итак, пока весь Оукэм будет перебиваться на хлебе, ячмене, похлебке и рыбешке один разок за сорок дней, и то если повезет, у вас, счастливчика, мясо не закончится до середины поста.
— Если его делить, каждому достанется на один укус…
— Хотите сказать, вы не можете поделиться гусем, потому что тогда пришлось бы объяснять, что это подарок от Сесили Тауншенд, — неловкость выйдет, полагаю. Особенно если вы попробуете объяснить, с какой стати вам преподносят такие подарки.
— Я же сказал, из любезности, священников нередко благодарят таким образом.
— Сумеете съесть гуся целиком до начала поста?
— До поста всего два дня осталось.
— Тогда поделитесь с приходом, каждому на один укус. Или вам неохота делиться?
Благочинный встал, подошел к печи и протянул ладони к огню; пальцы у него были белые, словно бескровные.
— Вы сознаете, сколь необходимо сплотить ваших людей теперь, когда Ньюман мертв? Сознаете, сколь близок ваш церковный двор к тому, чтобы превратиться еще в один огород, где будет хозяйничать монах? И как вам просить прихожан сплотиться, когда вы сами отрываетесь от них? Или для вас одни правила, для них другие? Станут ли они вам доверять?
Я порывисто отхлебнул пива, но проглотил не сразу. А когда проглотил, едва не захлебнувшись, благочинный развернулся ко мне лицом:
— Вы — их защитник, Рив, вы — единственная преграда на пути брутонских монахов, готовых захватить вашу деревню. Вообразите, что стоите на меже с вилами. Хотя, возможно, настанет день, когда вам и впрямь придется взяться за вилы.
“Горе нам тогда”, — подумал я. Как браться за вилы, я представления не имел. Размахивать ими, колоть, вонзать со всей силы или метать, как копье? В монаха?
— Вероятно, глаза меня подводят, — произнес благочинный, — но я не заметил, чтобы ваш конец лодки приподнялся, кстати говоря. Напротив, мне показалось, что корма слегка опустилась в воду.
Не знаю, что он прочел на моем лице; я старался не обнаружить страха, но страх скрыть нелегко. Войди он в мой дом и застань меня голым, я бы чувствовал себя менее разоблаченным и виноватым. “Меня посвятили в сан, — хотел я ему сказать. — Я попрал свою плоть ради духовной жизни, я отдал фунт собственной крови за шелестящий невесомый шепот — за надежду. Если лодка не приподнялась, может, порочно само испытание, а не испытуемый? Уж не желаете ли вы сказать, что когда меня вручали Господу, Он не принял меня? Либо вы считает меня пустышкой?”
— Отошлю гуся обратно Тауншендам, — брякнул я. И хотя слова вырвались случайно, я уцепился за эту мысль: избавиться от гуся, который теперь казался насмешкой, издевкой, принижающей меня.
— Сколь густую тень этот возврат бросит на Сесили Тауншенд. Не задумается ли ее муж, с чего вдруг она одаривает священника на Сыропустной неделе? И наверняка решит, что его жене есть что скрывать. — Благочинный присел на краешек кресла. — Нет, — качнул он головой. — Нет, нет. Вы не отдадите гуся обратно — вы съедите его до последней жилки, и чтобы к Прощеному вторнику от него и следа не осталось. Представьте, что уминаете вашу слабость и тягу к шатким договоренностям, и к последнему куску слабость ваша исчезнет, останется только решимость.
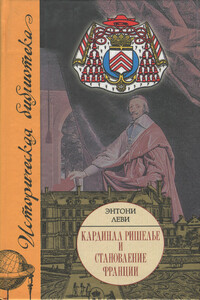
Подробная и вместе с тем увлекательная книга посвящена знаменитому кардиналу Ришелье, религиозному и политическому деятелю, фактическому главе Франции в период правления короля Людовика XIII. Наделенный железной волей и холодным острым умом, Ришелье сначала завоевал доверие королевы-матери Марии Медичи, затем в 1622 году стал кардиналом, а к 1624 году — первым министром короля Людовика XIII. Все свои усилия он направил на воспитание единой французской нации и на стяжание власти и богатства для себя самого. Энтони Леви — ведущий специалист в области французской литературы и культуры и редактор авторитетного двухтомного издания «Guide to French Literature», а также множества научных книг и статей.

Мемуары де Латюда — незаменимый источник любопытнейших сведений о тюремном быте XVIII столетия. Если, повествуя о своей молодости, де Латюд кое-что утаивал, а кое-что приукрашивал, стараясь выставить себя перед читателями в возможно более выгодном свете, то в рассказе о своих переживаниях в тюрьме он безусловно правдив и искренен, и факты, на которые он указывает, подтверждаются многочисленными документальными данными. В том грозном обвинительном акте, который беспристрастная история составила против французской монархии, запискам де Латюда принадлежит, по праву, далеко не последнее место.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эта история произошла в реальности. Её персонажи: пират-гуманист, фашист-пацифист, пылесосный император, консультант по чёрной магии, социологи-террористы, прокуроры-революционеры, нью-йоркские гангстеры, советские партизаны, сицилийские мафиози, американские шпионы, швейцарские банкиры, ватиканские кардиналы, тысяча живых масонов, два мёртвых комиссара Каттани, один настоящий дон Корлеоне и все-все-все остальные — не являются плодом авторского вымысла. Это — история Италии.

В книгу вошли два романа ленинградского прозаика В. Бакинского. «История четырех братьев» охватывает пятилетие с 1916 по 1921 год. Главная тема — становление личности четырех мальчиков из бедной пролетарской семьи в период революции и гражданской войны в Поволжье. Важный мотив этого произведения — история любви Ильи Гуляева и Верочки, дочери учителя. Роман «Годы сомнений и страстей» посвящен кавказскому периоду жизни Л. Н. Толстого (1851—1853 гг.). На Кавказе Толстой добивается зачисления на военную службу, принимает участие в зимних походах русской армии.

В книге рассматривается история древнего фракийского народа гетов. Приводятся доказательства, что молдавский язык является преемником языка гетодаков, а молдавский народ – потомками древнего народа гето-молдован.