Ветер западный - [60]
— Вот именно, Том. Она льется прямиком в ухо и может ничего не значить. Или даже хуже чем ничего. Возможно, ее льет в наши уши сам дьявол.
— По-твоему, мы недостаточно долго живем на этом свете, чтобы понимать разницу? Мы что, дети малые? А ты — наша нянька, без которой нам и шагу ступить нельзя?
— Нянька? — Я сел на ступеньку перед алтарем, согнулся, воткнув локти в колени. После службы я всегда чувствовал усталость. День выдался теплым. В церкви было пыльно и уютно, по-летнему пахло водой в прудах и персиками.
Положив лютню на ступеньку рядом со мной, Ньюман принялся расхаживать взад-вперед, развеселившийся, возбужденный. Он походил на бродячего игреца, коих во множестве развелось, вроде тех дурашливых жонглеров, что то и дело роняют свои мячики.
— Divino fuorore, так это называется, — сказал Ньюман. — Божественное вдохновение. Музыкант, играя, превращается в рупор Божий. Музыка уносит его ввысь, Джон, и он, и его музыка воздействуют на людей как священник, как святой человек, проводник воли Господней.
— Однако без священника или святого, — я выпрямился и развел руками, стараясь унять свой гнев, — сумеете ли вы в точности распознать волю Господню? Сколько различных слов в мире, сказано в Послании к коринфянам. Но как распознать их смысл? Как распознать то, что играют на свирели или на арфе?[37]
Я взял в руку лютню, мертвую деревяшку, безжизненную, и положил обратно на алтарную ступеньку. А еще эта Пьета на другой стене в его личном алтаре, красок на нее не пожалели — вероятно, Ньюман полагал, что и в этом заключается нечто божественное. Бог в кисточке для раскрашивания, Бог свиной щетины. Ньюман прекратил шагать, теперь он стоял, скрестив руки.
— Я уважаю тебя, Джон, твое главенство как священника. Несомненно уважаю. Но, возможно, ты заходишь слишком далеко, воображая, будто милость Господня нисходит на нас исключительно твоими стараниями.
— Неправда. Я помогаю, но только когда самим вам не справиться.
Он посмотрел на меня сверху вниз:
— И с чем же я не справлюсь? Допустим, я сплю с хозяйкой усадьбы, и что, я нуждаюсь в твоей помощи, чтобы раздеть ее?
Я резко отвернулся:
— Нет, но я нужен тебе, чтобы получить прощение.
— Спорное утверждение, Джон, поскольку я сам могу подать прошение Господу, и Он простит меня или нет, накажет или нет. И я не уверен, что Ему нужен ты в качестве судьи. — Теперь Ньюман развел руками.
— И все же, — полюбопытствовал я, — ты спишь с хозяйкой усадьбы?
— Ну если и так, — улыбнулся он, — тебя это не касается.
— А потом играешь на лютне и Бог прощает тебя?
Ньюман рассмеялся. Думать, что Бог заинтересуется струнами из овечьих кишок. Думать, что овечья требуха способна заменить священника, обучавшегося годами, преданного своему делу душой и телом, поправшего свое мужское естество и отказывающего себе во всем ради служения Господу. Словно Бог каждый раз вострит ухо, когда Ньюман берется играть, — и даже больше, словно Бог поселился в его лютне.
— Будь по-твоему, — сказал я, взял лютню, вскочил на ноги, вошел в исповедальную будку и положил инструмент на низенький складной табурет, от которого у меня ломило спину. Когда я вышел из темной будочки, Ньюман стоял, прислонившись к восточной колонне.
— Вот, — сказал я не без ребячливого задора. — Если лютня — столь надежный служитель Господа, пусть она вас исповедует.
— Любопытно, — разулыбался Ньюман, — сколько времени пройдет, прежде чем обнаружат подмену.
Сказал он это не злобно; Ньюман никогда не злобствовал.
В исповедальне все еще витал аромат Сесили Тауншенд — лаванда, коровьи лепешки и плесневеющие отбросы, — и я подумал, что негоже сердиться на покойника, особенно когда у тебя на руках куча денег, принадлежавших этому покойнику.
Ньюман бывал задирист, в этом мы были похожи — он дерзил, а я его окорачивал, по-своему наслаждаясь перепалкой. Но в тот день он не просто дерзил, как я теперь понимал. И о Сесили Тауншенд заговорил не просто так: он как бы каялся в грехе, но не просил прощения. Раздевал он ее много раз, а потом играл на лютне для Господа, стараясь загладить свою вину, и, скорее всего, верил, что Господь не прочь его простить.
Сидя в исповедальне, я прижался виском к стене так, что голова заболела, и увидел себя в те минуты, когда меня посвящали в сан. Я лежал ничком перед алтарем, епископ простер надо мной руки, и я ощутил дрожь в костях. “Отныне ты in persona Christi[38], — сказал епископ. — Его словами ты будешь взывать к Господу”. Меня будто подвели к краю пропасти и столкнули. Я не воспарил на крыльях веры, потому что ты не воспаряешь, а падаешь, и это падение ужасно, но иного пути у Бога для нас нет. Ни живопись, ни музыка. Ни угол срезать, ни стороной обойти. Я пытался объяснить это Ньюману: в поисках Бога ты не взмываешь ввысь синей птахой, издавая сладкие трели, ты летишь вниз в бездонных потемках своей души. Но он никогда не вникал в то, о чем не хотел слышать.
И тут раздался грохот, глухой удар и треск. Крупнотелый мужчина рухнул на пол. Я выбежал из будки в притвор: Хэрри Картер, свалившись с лестницы, лежал на спине, у его уха спереди виднелся глубокий порез, а черепичная плитка, ответственная за ранение, полусотней разновеликих треугольников рассыпалась вокруг кровоточащей головы.
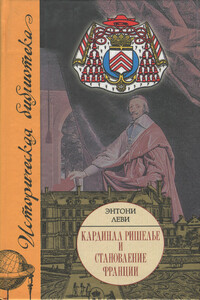
Подробная и вместе с тем увлекательная книга посвящена знаменитому кардиналу Ришелье, религиозному и политическому деятелю, фактическому главе Франции в период правления короля Людовика XIII. Наделенный железной волей и холодным острым умом, Ришелье сначала завоевал доверие королевы-матери Марии Медичи, затем в 1622 году стал кардиналом, а к 1624 году — первым министром короля Людовика XIII. Все свои усилия он направил на воспитание единой французской нации и на стяжание власти и богатства для себя самого. Энтони Леви — ведущий специалист в области французской литературы и культуры и редактор авторитетного двухтомного издания «Guide to French Literature», а также множества научных книг и статей.

Мемуары де Латюда — незаменимый источник любопытнейших сведений о тюремном быте XVIII столетия. Если, повествуя о своей молодости, де Латюд кое-что утаивал, а кое-что приукрашивал, стараясь выставить себя перед читателями в возможно более выгодном свете, то в рассказе о своих переживаниях в тюрьме он безусловно правдив и искренен, и факты, на которые он указывает, подтверждаются многочисленными документальными данными. В том грозном обвинительном акте, который беспристрастная история составила против французской монархии, запискам де Латюда принадлежит, по праву, далеко не последнее место.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эта история произошла в реальности. Её персонажи: пират-гуманист, фашист-пацифист, пылесосный император, консультант по чёрной магии, социологи-террористы, прокуроры-революционеры, нью-йоркские гангстеры, советские партизаны, сицилийские мафиози, американские шпионы, швейцарские банкиры, ватиканские кардиналы, тысяча живых масонов, два мёртвых комиссара Каттани, один настоящий дон Корлеоне и все-все-все остальные — не являются плодом авторского вымысла. Это — история Италии.

В книгу вошли два романа ленинградского прозаика В. Бакинского. «История четырех братьев» охватывает пятилетие с 1916 по 1921 год. Главная тема — становление личности четырех мальчиков из бедной пролетарской семьи в период революции и гражданской войны в Поволжье. Важный мотив этого произведения — история любви Ильи Гуляева и Верочки, дочери учителя. Роман «Годы сомнений и страстей» посвящен кавказскому периоду жизни Л. Н. Толстого (1851—1853 гг.). На Кавказе Толстой добивается зачисления на военную службу, принимает участие в зимних походах русской армии.

В книге рассматривается история древнего фракийского народа гетов. Приводятся доказательства, что молдавский язык является преемником языка гетодаков, а молдавский народ – потомками древнего народа гето-молдован.