Верлен и Рембо - [106]
Лишь "изменнику-отцу" не нашлось места в "святом семействе", ибо он пренебрег своим долгом — позорно дезертировал, упустив возможность стать вторым Иосифом.
Легенда о Рембо укрепилась благодаря появлению "адептов" — тех, кто в нее искренне уверовал. Большую роль здесь сыграл бывший друг: "С 1883 года Верлен примирился с воспоминанием о шантажисте, которого избегал несколько лет тому назад". Для старого Верлена Рембо превратился в самое светлое воспоминание, а сожаления о навсегда ушедшем прошлом получили дополнительный импульс из-за его ранней смерти. Именно "бедный Лелиан" подготовил первые публикации: внезапное появление стихов и прозы Рембо произвело колоссальное впечатление на литературный мир (с творчеством Верлена в Париже были хороши знакомы) — к этому добавилась аура Востока и "загадочной" судьбы.
Среди страстных поклонников творчества Рембо в первую очередь следует назвать Поля Клоделя, который пережил сильнейший духовный кризис, обратившись в католичество:
"Знакомство с "Озарениями", а затем, спустя несколько месяцев, с "Сезоном в аду" стало для меня событием капитальной важности. Эти книги впервые пробили брешь в моей материалистической каторге и дали мне живое и почти физическое представление о сверхъестественном".
Именно Клодель возвел Рембо в ранг Мессии, соединившись тем самым с семейством "святого Артюра". И он же создал поэтическую трактовку легенды о Верлене, которого Рембо тщетно пытался возвысить до ранга "Сына Солнца". Поэма Клоделя настолько показательна в этом отношении, что ее первую часть (с характерным подзаголовком "Слабый Верлен") следует привести полностью:
Поражает утверждение, будто Верлен уверовал не в католического Бога и Деву Марию, а в нового Иисуса — Артюра Рембо. Умиляет пассаж, где Клодель в непритворном ужасе говорит, что после отъезда Рембо Верлен стал представлять угрозу правопорядку — и именно поэтому угодил в тюрьму. Не вполне понятно, правда, за что бельгийцы так сурово обошлись с полубезумным, бренным "нечто". Зато вполне понятно презрительное отношение к стихам Верлена — высказанное, правда, не прямо, а с помощью аллюзии на известную фразу Мюссе ("пусть мой стакан мал, но я пью из своего стакана). Двух гениев быть не может, и со "слабого Верлена" нужно сорвать незаслуженные лавры — как смеет он даже сравнивать себя с Мессией, который "нашел вечность"?

Автор текста - Порхомовский Виктор Яковлевич.доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института языкознания РАН,профессор ИСАА МГУ Настоящий очерк посвящается столетию со дня рождения выдающегося лингвиста и филолога профессора Энвера Ахмедовича Макаева (28 мая 1916, Москва — 30 марта 2004, Москва). Основу этого очерка составляют впечатления и воспоминания автора о регулярных беседах и дискуссиях с Энвером Ахмедовичем на протяжении более 30 лет. Эти беседы охватывали самые разные темы и проблемы гуманитарной культуры.

«Константин Михайлов в поддевке, с бесчисленным множеством складок кругом талии, мял в руках свой картуз, стоя у порога комнаты. – Так пойдемте, что ли?.. – предложил он. – С четверть часа уж, наверное, прошло, пока я назад ворочался… Лев Николаевич не долго обедает. Я накинул пальто, и мы вышли из хаты. Волнение невольно охватило меня, когда пошли мы, спускаясь с пригорка к пруду, чтобы, миновав его, снова подняться к усадьбе знаменитого писателя…».
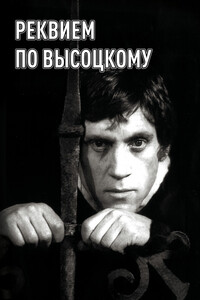
Впервые в истории литературы женщина-поэт и прозаик посвятила книгу мужчине-поэту. Светлана Ермолаева писала ее с 1980 года, со дня кончины Владимира Высоцкого и по сей день, 37 лет ежегодной памяти не только по датам рождения и кончины, но в любой день или ночь. Больше половины жизни она посвятила любимому человеку, ее стихи — реквием скорбной памяти, высокой до небес. Ведь Он — Высоцкий, от слова Высоко, и сей час живет в ее сердце. Сны, где Владимир живой и любящий — нескончаемая поэма мистической любви.

Роман о жизни и борьбе Фридриха Энгельса, одного из основоположников марксизма, соратника и друга Карла Маркса. Электронное издание без иллюстраций.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Творчество Исаака Бабеля притягивает пристальное внимание не одного поколения специалистов. Лаконичные фразы произведений, за которыми стоят часы, а порой и дни титанической работы автора, их эмоциональность и драматизм до сих пор тревожат сердца и умы читателей. В своей уникальной работе исследователь Давид Розенсон рассматривает феномен личности Бабеля и его альтер-эго Лютова. Где заканчивается бабелевский дневник двадцатых годов и начинаются рассказы его персонажа Кирилла Лютова? Автобиографично ли творчество писателя? Как проявляется в его мировоззрении и работах еврейская тема, ее образность и символика? Кроме того, впервые на русском языке здесь представлен и проанализирован материал по следующим темам: как воспринимали Бабеля его современники в Палестине; что писала о нем в 20-х—30-х годах XX века ивритоязычная пресса; какое влияние оказал Исаак Бабель на современную израильскую литературу.